|
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, НАЗВАННЫЙ В КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЕМ. Г. 980-1014
(из книги Н. Кармзин. История Государства Российского)

Хитрость Владимира. Усердие к идолопоклонству. Женолюбие. Завоевание
Галиции. Первые Христианские мученики в Киеве. Бунт Радимичей. Камская
Болгария. Торки. Отчаяние Гориславы. Супружество Владимира и крещение
России. Разделение Государства. Строение городов. Война с Хорватами и
Печенегами. Церковь Десятинная. Набег Печенегов. Пиры Владимировы.
Милосердие. Осада Белагорода. Бунт Ярослава. Кончина Владимирова. Свойства
его. Сказки народные. Богатыри.
Владимир с помощью злодеяния и храбрых Варягов овладел Государством; но
скоро доказал, что он родился быть Государем великим.
Сии гордые Варяги считали себя завоевателями Киева и требовали в дань с
каждого жителя по две гривны: Владимир не хотел вдруг отказать им, а манил
их обещаниями до самого того времени, как они, по взятым с его стороны
мерам, уже не могли быть страшны для столицы. Варяги увидели обман; но видя
также, что войско Российское в Киеве было их сильнее, не дерзнули
взбунтоваться и смиренно просились в Грецию. Владимир, с радостию отпустив
сих опасных людей, удержал в России достойнейших из них и роздал им многие
города в управление. Между тем послы его предуведомили Императора, чтобы он
не оставлял мятежных Варягов в столице, но разослал по городам и ни в каком
случае не дозволял бы им возвратиться в Россию, сильную собственным войском.
Владимир, утвердив власть свою, изъявил отменное усердие к богам
языческим:
соорудил новый истукан Перуна с серебряною головою и поставил его близ
теремного двора, на священном холме, вместе с иными кумирами. Там, говорит
Летописец, стекался народ ослепленный и земля осквернялась кровию жертв.
Может быть, совесть беспокоила Владимира; может быть, хотел он сею кровию
примириться с богами, раздраженными его братоубийством: ибо и самая Вера
языческая не терпела таких злодеяний... Добрыня, посланный от своего
племянника управлять Новымгородом, также поставил на берегу Волхова богатый
кумир Перунов.
Но сия Владимирова набожность не препятствовала ему утопать в
наслаждениях чувственных. Первою его супругою была Рогнеда, мать Изяслава,
Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей; умертвив брата, он взял в
наложницы свою беременную невестку, родившую Святополка; от другой законной
супруги, Чехини или Богемки, имел сына Вышеслава; от третьей Святослава и
Мстислава; от четвертой, родом из Болгарии, Бориса и Глеба. Сверх того,
ежели верить летописи, было у него 300 наложниц в Вышегороде, 300 в нынешней
Белогородке (близ Киева), и 200 в селе Берестове. Всякая прелестная жена и
девица страшилась его любострастного взора: он презирал святость брачных
союзов и невинности. Одним словом, Летописец называет его вторым Соломоном в
женолюбии.
Владимир, вместе со многими Героями древних и новых времен любя жен,
любил и войну. Польские Славяне, Ляхи, наскучив бурною вольностию, подобно
Славянам Российским, еще ранее их прибегнули к Единовластию. Мечислав,
Государь знаменитый в Истории введением Христианства в земле своей, правил
тогда народом Польским: Владимир объявил ему войну, с намерением, кажется,
возвратить то, что было еще Олегом завоевано в Галиции, но после, может
быть, при слабом Ярополке отошло к Государству Польскому. Он взял города
Червен (близ Хелма), Перемышль и другие, которые, с сего времени будучи
собственностию России, назывались Червенскими. В следующие два года храбрый
Князь смирил бунт Вятичей, не хотевших платить дани, и завоевал страну
Ятвягов, дикого, но мужественного народа Латышского, обитавшего в лесах
между Литвою и Польшею. Далее к Северо-Западу он распространил свои владения
до самого Бальтийского моря: ибо Ливония, по свидетельству Стурлезона,
Летописца Исландского, принадлежала Владимиру, коего чиновники ездили
собирать дань со всех жителей между Курляндиею и Финским заливом.
Увенчанный победою и славою, Владимир хотел принести благодарность
идолам и кровию человеческой обагрить олтари. Исполняя совет Бояр и старцев,
он велел бросить жребий, кому из отроков и девиц Киевских надлежало
погибнуть в удовольствие мнимых богов - и жребий пал на юного Варяга,
прекрасного лицом и душою, коего отец был Христианином. Посланные от старцев
объявили родителю о сем несчастии: вдохновенный любовию к сыну и ненавистию
к такому ужасному суеверию, он начал говорить им о заблуждении язычников, о
безумии кланяться тленному дереву вместо живого Бога, истинного Творца неба,
земли и человека. Киевляне терпели Христианство; но торжественное хуление
Веры их произвело всеобщий мятеж в городе. Народ вооружился, разметал двор
Варяжского Христианина и требовал жертвы. Отец, держа сына за руку, с
твердостию сказал: "Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами
извлекут его из моих объятий". Народ, в исступлении ярости, умертвил отца и
сына, которые были таким образом первыми и последними мучениками
Христианства в языческом Киеве. Церковь наша чтит их Святыми под именем
Феодора и Иоанна.
Владимир скоро имел случай новыми победами доказать свое мужество и
счастие.
Радимичи, спокойные данники Великих Князей со времен Олеговых, вздумали
объявить себя независимыми: он спешил наказать их. Храбрый Воевода его,
прозванием Волчий Хвост, начальник передовой дружины Княжеской, встретился с
ними на берегах реки Пищаны и наголову побил мятежников; они смирились, и с
того времени (пишет Нестор) вошло на Руси в пословицу: Радимичи волчья
хвоста бегают.
[985 г.] На берегах Волги и Камы издревле обитали Болгары, или, может
быть, переселились туда с берегов Дона в VII веке, не хотев повиноваться
Хану Козарскому. В течение времени они сделались народом гражданским и
торговым; имели сообщение, посредством судоходных рек, с Севером России, а
чрез море Каспийское с Персиею и другими богатыми Азиатскими странами.
Владимир, желая завладеть Камскою Болгариею, отправился на судах вниз по
Волге вместе с Новогородцами и знаменитым Добрынею; берегом шли конные
Торки, союзники или наемники Россиян. Здесь в первый раз упоминается о сем
народе, единоплеменном с Туркоманами и Печенегами: он кочевал в степях на
юго-восточных границах России, там же, где скитались Орды Печенежские.
Великий Князь победил Болгаров; но мудрый Добрыня, по известию Летописца,
осмотрев пленников и видя их в сапогах, сказал Владимиру: "Они не захотят
быть нашими данниками: пойдем лучше искать лапотников". Добрыня мыслил, что
люди избыточные имеют более причин и средств обороняться. Владимир, уважив
его мнение, заключил мир с Болгарами, которые торжественно обещались жить
дружелюбно с Россиянами, утвердив клятву сими простыми словами: "Разве тогда
нарушим договор свой, когда камень станет плавать, а хмель тонуть на воде".
- Ежели не с данию, то по крайней мере с честию и с дарами Великий Князь
возвратился в столицу.
К сему времени надлежит, кажется, отнести любопытный и трогательный
случай, описанный в продолжении Несторовой летописи. Рогнеда, названная по
ее горестям Гориславою, простила супругу убийство отца и братьев, но не
могла простить измены в любви: ибо Великий Князь уже предпочитал ей других
жен и выслал несчастную из дворца своего. В один день, когда Владимир,
посетив ее жилище уединенное на берегу Лыбеди - близ Киева, где в Несторово
время было село Предславино, - заснул там крепким сном, она хотела ножом
умертвить его. Князь проснулся и отвел удар. Напомнив жестокому смерть
ближних своих и проливая слезы, отчаянная Рогнеда жаловалась, что он уже
давно не любит ни ее, ни бедного младенца Изяслава. Владимир решился
собственною рукою казнить преступницу; велел ей украситься брачною одеждою
и, сидя на богатом ложе в светлой храмине, ждать смерти. Уже гневный супруг
и судия вступил в сию храмину... Тогда юный Изяслав, наученный Рогнедою,
подал ему меч обнаженный и сказал: "Ты не один, о родитель мой! Сын будет
свидетелем". Владимир, бросив меч на землю, ответствовал: "Кто знал, что ты
здесь!"... удалился, собрал Бояр и требовал их совета. "Государь! - сказали
они: - прости виновную для сего младенца, и дай им в Удел бывшую область
отца ее". Владимир согласился: построил новый город в нынешней Витебской
Губернии и, назвав его Изяславлем, отправил туда мать и сына.
Теперь приступаем к описанию важнейшего дела Владимирова, которое всего
более прославило его в истории... Исполнилось желание благочестивой Ольги, и
Россия, где уже более ста лет мало-помалу укоренялось Христианство, наконец
вся и торжественно признала святость оного, почти в одно время с землями
соседственными: Венгриею, Польшею, Швециею, Норвегиею и Даниею. Самое
разделение Церквей, Восточной и Западной, имело полезное следствие для
истинной Веры: ибо главы их старались превзойти друг друга в деятельной
ревности к обращению язычников.
Древний Летописец наш повествует, что не только Христианские
проповедники, но и Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими в земле
Козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников склонять
Владимира к принятию Веры своей и что Великий Князь охотно выслушивал их
учение. Случай вероятный: народы соседственные могли желать, чтобы Государь,
уже славный победами в Европе и в Азии, исповедовал одного Бога с ними, и
Владимир мог также - увидев наконец, подобно великой бабке своей,
заблуждение язычества - искать истины в разных Верах.
Первые Послы были от Волжских или Камских Болгаров. На восточных и
южных берегах Каспийского моря уже давно господствовала Вера Магометанская,
утвержденная там счастливым оружием Аравитян: Болгары приняли оную и хотели
сообщить Владимиру.
Описание Магометова рая и цветущих гурий пленило воображение
сластолюбивого Князя; но обрезание казалось ему ненавистным обрядом и
запрещение пить вино - уставом безрассудным. Вино, сказал он, есть веселие
для Русских; не можем быть без него. - Послы Немецких Католиков говорили ему
о величии невидимого Вседержителя и ничтожности идолов. Князь ответствовал
им: Идите обратно; отцы наши не принимали Веры от Папы. Выслушав Иудеев, он
спросил, где их отечество?
"В Иерусалиме, - ответствовали проповедники: - но Бог во гневе своем
расточил нас по землям чуждым". И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить
других? сказал Владимир: мы не хотим, подобно вам, лишиться своего
отечества. - Наконец, безымянный Философ, присланный Греками, опровергнув в
немногих словах другие Веры, рассказал Владимиру все содержание Библии,
Ветхого и Нового Завета:
Историю творения, рая, греха, первых людей, потопа, народа избранного,
искупления, Христианства, семи Соборов, и в заключение показал ему картину
Страшного Суда с изображением праведных, идущих в рай, и грешных, осужденных
на вечную муку. Пораженный сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал: "Благо
добродетельным и горе злым!" Крестися, - ответствовал Философ, - и будешь в
раю с первыми.
Летописец наш угадывал, каким образом проповедники Вер долженствовали
говорить с Владимиром; но ежели Греческий Философ действительно имел право
на сие имя, то ему не трудно было уверить язычника разумного в великом
превосходстве Закона Христианского. Вера Славян ужасала воображение
могуществом разных богов, часто между собою несогласных, которые играли
жребием людей, и нередко увеселялись их кровию. Хотя Славяне признавали
также и бытие единого Существа высочайшего, но праздного, беспечного в
рассуждении судьбы мира, подобно божеству Эпикурову и Лукрециеву. О жизни за
пределами гроба, столь любезной человеку, Вера не сообщала им никакого
ясного понятия: одно земное было ее предметом. Освящая добродетель
храбрости, великодушия, честности, гостеприимства, она способствовала благу
гражданских обществ в их новости, но не могла удовольствовать сердца
чувствительного и разума глубокомысленного. Напротив того, Христианство,
представляя в едином невидимом Боге создателя и правителя вселенной, нежного
отца людей, снисходительного к их слабостям и награждающего добрых - здесь
миром и покоем совести, а там, за тьмою временной смерти, блаженством вечной
жизни, - удовлетворяет всем главным потребностям души человеческой.
[987 г.] Владимир, отпустив Философа с дарами и с великою честию,
собрал Бояр и градских старцев, объявил им предложения Магометан, Иудеев,
Католиков, Греков и требовал их совета. "Государь! - сказали Бояре и старцы:
- Всякий человек хвалит Веру свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли
умных людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется
Божеству" - и Великий Князь отправил десять благоразумных мужей для сего
испытания. Послы видели в стране Болгаров храмы скудные, моление унылое,
лица печальные; в земле Немецких Католиков богослужение с обрядами, но, по
словам летописи, без всякого величия и красоты, наконец прибыли в
Константинополь. Да созерцают они славу Бога нашего!
сказал Император и, зная, что грубый ум пленяется более наружным
блеском, нежели истинами отвлеченными, приказал вести Послов в Софийскую
церковь, где сам Патриарх, облаченный в Святительские ризы, совершал
Литургию. Великолепие храма, присутствие всего знаменитого Духовенства
Греческого, богатые одежды служебные, убранство олтарей, красота живописи,
благоухание фимиама, сладостное пение Клироса, безмолвие народа, священная
важность и таинственность обрядов изумили Россиян; им казалось, что сам
Всевышний обитает в сем храме и непосредственно с людьми соединяется...
Возвратясь в Киев, Послы говорили Князю с презрением о богослужении
Магометан, с неуважением о Католическом и с восторгом о Византийском,
заключив словами: "Всякий человек, вкусив сладкое, имеет уже отвращение от
горького; так и мы, узнав Веру Греков, не хотим иной". Владимир желал еще
слышать мнение Бояр и старцев. "Когда бы Закон Греческий, - сказали они, -
не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех людей, не вздумала
бы принять его". Великий Князь решился быть Христианином.
Так повествует наш Летописец, который мог еще знать современников
Владимира, и потому достоверный в описании важных случаев его княжения.
Истина сего Российского Посольства в страну Католиков и в Царьград, для
испытания Закона Христианского, утверждается также известиями одной
Греческой древней рукописи, хранимой в Парижской библиотеке: несогласие
состоит единственно в прилагательном имени Василия, тогдашнего Царя
Византийского, названного в ней Македонским вместо Багрянородного. Владимир
мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно находились
церкви и Священники Христианские; но Князь пышный хотел блеска и величия при
сем важном действии: одни Цари Греческие и Патриарх казались ему достойными
сообщить целому его народу уставы нового богослужения.
Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в
рассуждении Греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и
смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, завоевать Веру
Христианскую и принять ее святыню рукою победителя.
[988 г.] Собрав многочисленное войско, Великий Князь пошел на судах к
Греческому Херсону, которого развалины доныне видимы в Тавриде, близ
Севастополя. Сей торговый город, построенный в самой глубокой древности
выходцами Гераклейскими, сохранял еще в Х веке бытие и славу свою, несмотря
на великие опустошения, сделанные дикими народами в окрестностях Черного
моря, со времен Геродотовых скифов до Козаров и Печенегов. Он признавал над
собою верховную власть Императоров Греческих, но не платил им дани; избирал
своих начальников и повиновался собственным законам Республиканским. Жители
его, торгуя во всех пристанях, Черноморских, наслаждались изобилием. -
Владимир, остановясь в гавани, или заливе Херсонском, высадил на берег
войско и со всех сторон окружил город. Издревле привязанные к вольности,
Херсонцы оборонялись мужественно.
Великий Князь грозил им стоять три года под их стенами, ежели они не
сдадутся:
но граждане отвергали его предложения, в надежде, может быть, иметь
скорую помощь от Греков; старались уничтожать все работы осаждающих и,
сделав тайный подкоп, как говорит Летописец, ночью уносили в город ту землю,
которую Россияне сыпали перед стенами, чтобы окружить оную валом, по
древнему обыкновению военного искусства. К счастию, нашелся в городе
доброжелатель Владимиру, именем Анастас: сей человек пустил к Россиянам
стрелу с надписью: За вами, к Востоку, находятся колодези, дающие воду
Херсонцам чрез подземельные трубы; вы можете отнять ее. Великий Князь спешил
воспользоваться советом и велел перекопать водоводы (коих следы еще заметны
близ нынешних развалин Херсонских). Тогда граждане, изнуряемые жаждою,
сдались Россиянам.
Завоевав славный и богатый город, который в течение многих веков умел
отражать приступы народов варварских, Российский Князь еще более возгордился
своим величием и чрез Послов объявил Императорам, Василию и Константину, что
он желает быть супругом сестры их, юной Царевны Анны, или, в случае отказа,
возьмет Константинополь. Родственный союз с Греческими знаменитыми Царями
казался лестным для его честолюбия. Империя, по смерти Героя Цимиския, была
жертвою мятежей и беспорядка: Военачальники Склир и Фока не хотели
повиноваться законным Государям и спорили с ними о Державе. Сии
обстоятельства принудили Императоров забыть обыкновенную надменность Греков
и презрение к язычникам. Василий и Константин, надеясь помощию сильного
Князя Российского спасти трон и венец, ответствовали ему, что от него
зависит быть их зятем; что, приняв Веру Христианскую, он получит и руку
Царевны и Царство небесное. Владимир, уже готовый к тому, с радостию изъявил
согласие креститься, но хотел прежде, чтобы Императоры, в залог доверенности
и дружбы, прислали к нему сестру свою. Анна ужаснулась: супружество с Князем
народа, по мнению Греков, дикого и свирепого, казалось ей жестоким пленом и
ненавистнее смерти. Но Политика требовала сей жертвы, и ревность к обращению
идолопоклонников служила ей оправданием или предлогом. Горестная Царевна
отправилась в Херсон на корабле, сопровождаемая знаменитыми духовными и
гражданскими чиновниками: там народ встретил ее как свою избавительницу, со
всеми знаками усердия и радости. В летописи сказано, что Великий Князь тогда
разболелся глазами и не мог ничего видеть; что Анна убедила его немедленно
креститься и что он прозрел в самую ту минуту, когда Святитель возложил на
него руку. Бояре Российские, удивленные чудом, вместе с Государем приняли
истинную Веру (в церкви Св. Василия, которая стояла на городской площади,
между двумя палатами, где жили Великий Князь и невеста его). Херсонский
Митрополит и Византийские Пресвитеры совершили сей обряд торжественный, за
коим следовало обручение и самый брак Царевны с Владимиром, благословенный
для России во многих отношениях и весьма счастливый для Константинополя: ибо
Великий Князь, как верный союзник Императоров, немедленно отправил к ним
часть мужественной дружины своей, которая помогла Василию разбить мятежника
Фоку и восстановить тишину в Империи.
Сего не довольно: Владимир отказался от своего завоевания и, соорудив в
Херсоне церковь - на том возвышении, куда граждане сносили из-под стен
землю, возвратил сей город Царям Греческим в изъявление благодарности за
руку сестры их. Вместо пленников он вывел из Херсона одних Иереев и того
Анастаса, который помог ему овладеть городом; вместо дани взял церковные
сосуды, мощи Св. Климента и Фива, ученика его, также два истукана и четырех
коней медных, в знак любви своей к художествам (сии, может быть, изящные
произведения древнего искусства стояли в Несторово время на площади старого
Киева, близ нынешней Андреевской и Десятинной церкви). Наставленный
Херсонским Митрополитом в тайнах и нравственном учении Христианства,
Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом крещения.
Истребление кумиров служило приуготовлением к сему торжеству: одни были
изрублены, другие сожжены. Перуна, главного из них, привязали к хвосту
конскому, били тростями и свергнули с горы в Днепр. Чтобы усердные язычники
не извлекли идола из реки, воины Княжеские отталкивали его от берегов и
проводили до самых порогов, за коими он был извержен волнами на берег (и сие
место долго называлось Перуновым). Изумленный народ не смел защитить своих
мнимых богов, но проливал слезы, бывшие для них последнею данию суеверия:
ибо Владимир на другой день велел объявить в городе, чтобы все люди Русские,
Вельможи и рабы, бедные и богатые шли креститься - и народ, уже лишенный
предметов древнего обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая,
что новая Вера должна быть мудрою и святою, когда Великий Князь и Бояре
предпочли ее старой Вере отцев своих. Там явился Владимир, провождаемый
собором Греческих Священников, и по данному знаку бесчисленное множество
людей вступило в реку: большие стояли в воде по грудь и шею; отцы и матери
держали младенцев на руках; Иереи читали молитвы крещения и пели славу
Вседержителя. Когда же обряд торжественный совершился; когда Священный Собор
нарек всех граждан Киевских Христианами: тогда Владимир, в радости и
восторге сердца устремив взор на небо, громко произнес молитву:
"Творец земли и неба! Благослови сих новых чад Твоих; дай им познать
Тебя, Бога истинного, утверди в них Веру правую. Будь мне помощию в
искушениях зла, да восхвалю достойно святое имя Твое!"... В сей великий
день, говорит Летописец, земля и небо ликовали.
Скоро знамения Веры Христианской, принятой Государем, детьми его,
Вельможами и народом, явились на развалинах мрачного язычества в России, и
жертвенники Бога истинного заступили место идольских требищ. Великий Князь
соорудил в Киеве деревянную церковь Св. Василия на том месте, где стоял
Перун, и призвал из Константинополя искусных зодчих для строения храма
каменного во имя Богоматери, там, где в 983 году пострадал за Веру
благочестивый Варяг и сын его. Между тем ревностные служители олтарей,
Священники, проповедовали Христа в разных областях Государства. Многие люди
крестились, рассуждая без сомнения так же, как и граждане Киевские; другие,
привязанные к Закону древнему, отвергали новый: ибо язычество господствовало
в некоторых странах России до самого XII века. Владимир не хотел, кажется,
принуждать совести; но взял лучшие, надежнейшие меры для истребления
языческих заблуждений: он старался просветить Россиян. Чтобы утвердить Веру
на знании книг Божественных, еще в IX веке переведенных на Славянский язык
Кириллом и Мефодием и без сомнения уже давно известных Киевским Христианам,
Великий Князь завел для отроков училища, бывшие первым основанием народного
просвещения в России. Сие благодеяние казалось тогда страшною новостию, и
жены знаменитые, у коих неволей брали детей в науку, оплакивали их как
мертвых, ибо считали грамоту опасным чародейством.
Владимир имел 12 сыновей, еще юных отроков. Мы уже наименовали из них
9:
Станислав, Позвизд, Судислав родились, кажется, после. Думая, что дети
могут быть надежнейшими слугами отца или, лучше сказать, следуя несчастному
обыкновению сих времен, Владимир разделил Государство на области и дал в
Удел Вышеславу Новгород, Изяславу Полоцк, Ярославу Ростов: по смерти же
Вышеслава Новгород, а Ростов Борису; Глебу Муром, Святославу Древлянскую
землю, Всеволоду Владимир Волынский, Мстиславу Тмуторокань, или Греческую
Таматарху, завоеванную, как вероятно, мужественным дедом его; а Святополку,
усыновленному племяннику, Туров, который доныне существует в Минской
Губернии и назван так от имени Варяга Тура, повелевавшего некогда сею
областию. Владимир отправил малолетних Князей в назначенный для каждого
Удел, поручив их до совершенного возраста благоразумным пестунам. Он, без
сомнения, не думал раздробить Государства и дал сыновьям одни права своих
Наместников; но ему надлежало бы предвидеть следствия, необходимые по его
смерти. Удельный Князь, повинуясь отцу, самовластному Государю всей России,
мог ли столь же естественно повиноваться и наследнику, то есть брату своему?
Междоусобие детей Святославовых уже доказало противное; но Владимир не
воспользовался сим опытом: ибо самые великие люди действуют согласно с
образом мыслей и правилами своего века.
Желая удобнее образовать народ и защитить южную Россию от грабительства
Печенегов, Великий Князь основал новые города по рекам Десне, Остеру,
Трубежу, Суле, Стугне и населил их Новогородскими Славянами, Кривичами,
Чудью, Вятичами.
Укрепив Киевский Белгород стеною, он перевел туда многих жителей из
других городов: ибо отменно любил его и часто живал в оном.
Война с Хорватами, обитавшими (как думаем) на границах Седмиградской
области и Галиции, отвлекла Владимира от внутренних государственных
распоряжений. Едва окончив ее, миром или победою, он сведал о набеге
Печенегов, которые пришли из-за Сулы и разоряли область Киевскую. Великий
Князь встретился с ними на берегах Трубежа: причем Летописец рассказывает
следующую повесть:
"Войско Печенегов стояло за рекою: Князь их вызвал Владимира на берег и
предложил ему решить дело поединком между двумя, с обеих сторон избранными
богатырями. Ежели Русской убьет Печенега, сказал он, то обязываемся три года
не воевать с вами, а ежели наш победит, то мы вольны три года опустошать
твою землю. Владимир согласился и велел Бирючам или Герольдам в стане своем
кликнуть охотников для поединка: не сыскалось ни одного, и Князь Российский
был в горести. Тогда приходит к нему старец и говорит: Я вышел в поле с
четырьмя сынами, а меньший остался дома. С самого детства никто не мог
одолеть его.
Однажды, в сердце на меня, он разорвал на-двое толстую воловью кожу.
Государь!
Вели ему бороться с Печенегом. Владимир немедленно послал за юношею,
который для опыта в силе своей требовал быка дикого; и когда зверь,
раздраженный прикосновением горячего железа, бежал мимо юноши, сей богатырь
одной рукою вырвал у него из боку кусок мяса. На другой день явился Печенег,
великан страшный, и, видя своего малорослого противника, засмеялся. Выбрали
место:
единоборцы схватились. Россиянин крепкими мышцами своими давнул
Печенега и мертвого ударил об землю. Тогда дружина Княжеская, воскликнув
победу, бросилась на устрашенное войско Печенегов, которое едва могло
спастися бегством. Радостный Владимир в память сему случаю заложил на берегу
Трубежа город и назвал его Переяславлем: ибо юноша Русской переял у врагов
славу. Великий Князь, наградив витязя и старца, отца его, саном Боярским,
возвратился с торжеством в Киев".
Поединок может быть истиною; но обстоятельство, что Владимир основал
Переяславль, кажется сомнительным: ибо о сем городе упоминается еще в
Олеговом договоре с Греками в 906 году.
[994-996 гг.] Россия года два или три наслаждалась потом тишиною.
Владимир, к великому своему удовольствию, видел наконец совершение каменного
храма в Киеве, посвященного Богоматери и художеством Греков украшенного.
Там, исполненный Веры святой и любви к народу, он сказал пред олтарем
Всевышнего: "Господи! В сем храме, мною сооруженном, да внимаешь всегда
молитвам храбрых Россиян!" - и в знак сердечной радости угостил во дворце
Княжеском Бояр и градских старцев; не забыл и людей бедных, щедро
удовлетворив их нуждам. - Владимир отдал в новую церковь иконы, кресты и
сосуды, взятые в Херсоне; велел служить в ней Херсонским Иереям; поручил ее
любимцу своему Анастасу; уставил брать ему десятую часть из собственных
доходов Княжеских и, клятвенною грамотою обязав своих наследников не
преступать сего закона, положил оную в храме. Следственно, Анастас был
Священного сана и, вероятно, знаменитого, когда главная церковь столицы
(доныне именуемая Десятинною) находилась под его особенным ведением.
Новейшие Летописцы утвердительно повествуют о Киевских Митрополитах сего
времени, но, именуя их, противоречат друг другу. Нестор совсем не упоминает
о Митрополии до княжения Ярославова, говоря единственно о Епископах,
уважаемых Владимиром, без сомнения Греках или Славянах Греческих, которые,
разумея язык наш, тем удобнее могли учить Россиян.
Случай, опасный для Владимировой жизни, еще более утвердил сего Князя в
чувствах набожности. Печенеги, снова напав на области Российские, приступили
к Василеву, городу, построенному им на реке Стугне. Он вышел в поле с малою
дружиною, не мог устоять против их множества и должен был скрыться под
мостом. Окруженный со всех сторон врагами свирепыми, Владимир обещался,
ежели Небо спасет его, соорудить в Василеве храм празднику того дня, Святому
Преображению. Неприятели удалились, и Великий Князь, исполнив обет свой,
созвал к себе на пир Вельмож, Посадников, старейшин из других городов. Желая
изобразить его роскошь, Летописец говорит, что Владимир приказал сварить
триста варь меду и восемь дней праздновал с Боярами в Василеве. Убогие
получили 300 гривен из казны государственной.
Возвратясь в Киев, он дал новый пир не только Вельможам, но и всему
народу, который искренно радовался спасению доброго и любимого Государя. С
того времени сей Князь всякую неделю угощал в Гриднице, или в прихожей
дворца своего, Бояр, Гридней (меченосцев Княжеских), воинских Сотников,
Десятских и всех людей именитых или нарочитых. Даже и в те дни,когда его не
было в Киеве, они собирались во дворце и находили столы, покрытые мясами,
дичиною и всеми роскошными яствами тогдашнего времени. Однажды - как
рассказывает летописец - гости Владимировы, упоенные крепким медом, вздумали
жаловаться, что у знаменитого Государя Русского подают им к обеду деревянные
ложки. Великий Князь, узнав о том, велел сделать для них серебряные, говоря
благоразумно: Серебром и золотом не добудешь верной дружины; а с нею добуду
много и серебра и золота, подобно отиу моему и деду. Владимир, по словам
летописи, отменно любил свою дружину и советовался с сими людьми, не только
храбрыми, но и разумными, как о воинских, так и гражданских делах.
Будучи другом усердных Бояр и чиновников, он был истинным отцем бедных,
которые всегда могли приходить на двор Княжеский, утолять там голод свой и
брать из казны деньги. Сего мало: больные, говорил Владимир, не в силах
дойти до палат моих - и велел развозить по улицам хлебы, мясо, рыбу, овощи,
мед и квас в бочках. "Где нищие, недужные?" - спрашивали люди Княжеские и
наделяли их всем потребным. Сию добродетель Владимирову приписывает Нестор
действию Христианского учения. Слова Евангельские: блажени милостиви, яко
тии помиловани будут, и Соломоновы: дая нищему, Богу в заим даете, вселили в
душу Великого Князя редкую любовь к благотворению и вообще такое милосердие,
которое выходило даже из пределов государственной пользы. Он щадил жизнь
самых убийц и наказывал их только Вирою, или денежною пенею: число
преступников умножалось, и дерзость их ужасала добрых, спокойных граждан.
Наконец духовные Пастыри Церкви вывели набожного Князя из заблуждения. "Для
чего не караешь злодейства?" - спросили они. Боюсь гнева Небесного,
ответствовал Владимир. "Нет, - сказали Епископы: - ты поставлен Богом на
казнь злым, а добрым на милование. Должно карать преступника, но только с
рассмотрением". Великий Князь, приняв их совет, отменил Виру и снова ввел
смертную казнь, бывшую при Игоре и Святославе.
Сим благоразумным советникам надлежало еще пробудить в нем, для
государственного блага, и прежний дух воинский, усыпленный тем же
человеколюбием. Владимир уже не искал славы Героев и жил в мире с
соседственными Государями: Польским, Венгерским и Богемским; но хищные
Печенеги, употребляя в свою пользу миролюбие его, беспрестанно опустошали
Россию. Мудрые Епископы и старцы доказали Великому Князю, что Государь
должен быть ужасом не только преступников государственных, но и внешних
врагов, - и глас воинских труб снова раздался в нашем древнем отечестве.
[997 г.] Владимир, желая собрать воинство многочисленное для отражения
Печенегов, сам отправился в Новгород; но сии неутомимые враги, узнав его
отсутствие, приближились к столице, окружили Белгород и пресекли сообщение
жителей с местами окрестными. Чрез несколько времени сделался там голод, и
народ, собравшись на Вече, или совет, изъявил желание сдаться неприятелям.
"Князь далеко, - говорил он: - Печенеги могут умертвить только
некоторых из нас; а от голода мы все погибнем". Но хитрость умного старца,
впрочем не совсем вероятная, спасла граждан. Он велел ископать два колодезя,
поставить в них одну кадь с сытою, другую с тестом и звать старшин
неприятельских будто бы для переговоров. Видя сии колодези, они поверили,
что земля сама собою производит там вкусную для людей пищу, и возвратились к
своим Князьям с вестию, что город не может иметь недостатка в съестных
припасах! Печенеги сняли осаду. Вероятно, что Владимир счастливым оружием
унял наконец сих варваров: по крайней мере Летописец не упоминает более о их
нападениях на Россию до самого 1015 года. Но здесь предания оставляют,
кажется, Нестора и в течение семнадцати лет он сказывает нам только, что в
1000 году умерли Мальфрида - одна из бывших Владимировых жен, как надобно
думать - и знаменитая несчастием Рогнеда, в 1001 Изяслав, а в 1003 младенец
Всеслав, сын Изяславов; что в 1007 году привезли иконы в Киевский храм
Богоматери из Херсона или из Греции, а в 1011 скончалась Анна, супруга
Владимирова, достопамятная для потомства: ибо она была орудием Небесной
благодати, извлекшей Россию из тьмы идолопоклонства.
В сии годы, скудные происшествиями по Несторовой летописи, Владимир мог
иметь ту войну с Норвежским Принцем Эриком, о коей повествует Исландский
Летописец Стурлезон. Гонимый судьбою, малолетний Принц Норвежский Олоф,
племянник Сигурда, одного из Вельмож Владимировых, с материю, вдовствующею
Королевою Астридою, нашел убежище в России; учился при Дворе, осыпаемый
милостями Великой Княгини, и ревностно служил Государю; но, оклеветанный
завистливыми Боярами, должен был оставить его службу. Чрез несколько лет -
может быть, с помощью России - он сделался Королем Норвежским, отняв престол
у Эрика, который бежал в Швецию, собрал войско, напал на северо-западные
Владимировы области, осадил и взял приступом город Российский Альдейгабург,
или, как вероятно, нынешнюю Старую Ладогу, где обыкновенно приставали
мореплаватели Скандинавские и где, по народному преданию, Рюрик имел дворец
свой. Храбрый Норвежский Принц четыре года воевал с Владимиром; наконец,
уступив превосходству сил его, вышел из России.
Судьба не пощадила Владимира в старости: пред концом своим ему
надлежало увидеть с горестию, что властолюбие вооружает не только брата
против брата, но и сына против отца.
Наместники Новогородские ежегодно платили две тысячи гривен Великому
Князю и тысячу раздавали Гридням, или телохранителям Княжеским. Ярослав,
тогдашний Правитель Новагорода, дерзнул объявить себя независимым и не хотел
платить дани.
Раздраженный Владимир велел готовиться войску к походу в Новгород,
чтобы наказать ослушника; а сын, ослепленный властолюбием, призвал из-за
моря Варягов на помощь, думая, вопреки законам Божественным и человеческим,
поднять меч на отца и Государя. Небо, отвратив сию войну богопротивную,
спасло Ярослава от злодеяния редкого. [1015 г.]. Владимир, может быть от
горести, занемог тяжкою болезнию, и в то же самое время Печенеги ворвались в
Россию; надлежало отразить их: не имея сил предводительствовать войском, он
поручил его любимому сыну Борису, Князю Ростовскому, бывшему тогда в Киеве,
и чрез несколько дней скончался в Берестове, загородном дворце, не избрав
наследника и оставив кормило Государства на волю рока...
Святополк, усыновленный племянник Владимиров, находился в столице:
боясь его властолюбия, придворные хотели утаить кончину Великого Князя,
вероятно для того, чтобы дать время сыну его, Борису, возвратиться в Киев;
ночью выломали пол в сенях, завернули тело в ковер, спустили вниз по
веревкам и отвезли в храм Богоматери. Но скоро печальная весть разгласилась
в городе: Вельможи, народ, воины, бросились в церковь; увидели труп Государя
и стенанием изъявили свое отчаяние. Бедные оплакивали благотворителя, Бояре
отца отечества... Тело Владимирово заключили в мраморную раку и поставили
оную торжественно рядом с гробницею супруги его, Анны, среди храма
Богоматери, им сооруженного.
Сей Князь, названный церковию Равноапостольным, заслужил и в истории
имя Великого. Истинное ли уверение в святыне Христианства, или, как
повествует знаменитый Арабский Историк XIII века, одно честолюбие и желание
быть в родственном союзе с Государями Византийскими решило его креститься?
Известно Богу, а не людям. Довольно, что Владимир, приняв Веру Спасителя,
освятился Ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв в язычестве мстителем
свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и - что всего ужаснее -
братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах
Христианства, боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов отечества.
Главное право его на вечную славу и благодарность потомства состоит,
конечно, в том, что он поставил Россиян на путь истинной Веры; но имя
Великого принадлежит ему и за дела государственные. Сей Князь, похитив
Единовластие, благоразумным и счастливым для народа правлением загладил вину
свою; выслав мятежных Варягов из России, употребил лучших из них в ее
пользу; смирил бунты своих данников, отражал набеги хищных соседей, победил
сильного Мечислава и славный храбростию народ Ятвяжский; расширил пределы
Государства на Западе; мужеством дружины своей утвердил венец на слабой
главе Восточных Императоров; старался просветить Россию: населил пустыни,
основал новые города; любил советоваться с мудрыми Боярами о полезных
уставах земских; завел училища и призывал из Греции не только Иереев, но и
художников; наконец, был нежным отцом народа бедного. Горестию последних
минут своих он заплатил за важную ошибку в Политике, за назначение особенных
Уделов для сыновей.
Слава его правления раздалась в трех частях мира: древние
Скандинавские, Немецкие, Византийские, Арабские летописи говорят о нем.
Кроме преданий церкви и нашего первого Летописца о делах Владимировых,
память сего Великого Князя хранилась и в сказках народных о великолепии
пиров его, о могучих богатырях его времени: о Добрыне Новогородском,
Александре с золотою гривною, Илье Муромце, сильном Рахдае (который будто бы
один ходил на 300 воинов), Яне Усмошвеце, грозе Печенегов, и прочих, о коих
упоминается в новейших, отчасти баснословных летописях. Сказки не история;
но сие сходство в народных понятиях о временах Карла Великого и Князя
Владимира достойно замечания: тот и другой, заслужив бессмертие в летописях
своими победами, усердием к Христианству, любовию к Наукам, живут доныне и в
сказках богатырских.
Владимир, несмотря на слабое от природы здоровье, дожил до старости:
ибо в 970 году уже господствовал в Новегороде, под руководством дяди,
Боярина Добрыни.
Прежде нежели будем говорить о наследниках сего великого Монарха,
дополним Историю описанных нами времен всеми известиями, которые находятся в
Несторе и в чужестранных, современных Летописцах, о гражданском и
нравственном состоянии тогдашней России: чтобы не прерывать нити
исторического повествования, сообщаем оные в статье особенной.
|
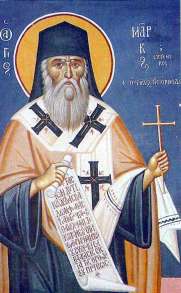




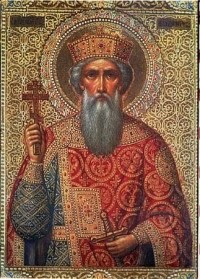
 Религиозно-политическое движение XVII века, в результате которого произошло отделение от Русской Православной Церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, получило название раскола.
Религиозно-политическое движение XVII века, в результате которого произошло отделение от Русской Православной Церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, получило название раскола. Реформы патриарха Никона ослабляли и Церковь и государство. Видя, какое сопротивление со стороны ревнителей и их единомышленников встречает предпринятое исправление церковных обрядов и богослужебных книг, Никон решил придать этому исправлению авторитет высшей духовной власти, т.е. соборной. Никоновские нововведения были одобрены церковными Соборами 1654–1655 годов. Только один из членов Собора, епископ коломенский Павел, попытался выразить несогласие с постановлением о поклонах, тем самым постановлением, против которого уже возражали протопопы-ревнители. Никон обошелся с Павлом не только сурово, но весьма жестоко: он заставил его осудить, снял с него архиерейскую мантию, подверг истязаниям и отправил в заточение. В течение 1653–1656 годов на Печатном дворе выпускались исправленные или вновь переведенные богослужебные книги.
Реформы патриарха Никона ослабляли и Церковь и государство. Видя, какое сопротивление со стороны ревнителей и их единомышленников встречает предпринятое исправление церковных обрядов и богослужебных книг, Никон решил придать этому исправлению авторитет высшей духовной власти, т.е. соборной. Никоновские нововведения были одобрены церковными Соборами 1654–1655 годов. Только один из членов Собора, епископ коломенский Павел, попытался выразить несогласие с постановлением о поклонах, тем самым постановлением, против которого уже возражали протопопы-ревнители. Никон обошелся с Павлом не только сурово, но весьма жестоко: он заставил его осудить, снял с него архиерейскую мантию, подверг истязаниям и отправил в заточение. В течение 1653–1656 годов на Печатном дворе выпускались исправленные или вновь переведенные богослужебные книги.