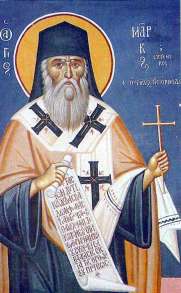Революция, а не реформа
Автор — г-н Константинос Ватиотис, бывший доцент юридического факультета Салоникского университета.
ЧАСТЬ В (3)
После того, что было упомянуто в части Б этой статьи, давайте вернемся к Качиньскому, который отмечает, что технологии развиваются с огромной скоростью и угрожают свободе одновременно по многим различным направлениям (правила и положения, растущая зависимость людей от крупных организаций, пропаганда и другие психологические методы, генная инженерия, вторжение в частную жизнь с помощью устройств слежения и компьютеров и т. д.).
Он считает, что для отражения любой из угроз свободе потребуется долгая и трудная социальная борьба, поскольку те, кто хочет защитить свободу, подавлены количеством и скоростью атак, становясь апатичными и не желая сопротивляться. Бороться с каждой из этих угроз по отдельности бесполезно. Надежда может быть только в случае борьбы с технологической системой в целом, но тогда это будет революцией, а не реформой.
Переняв эстафету у Качиньского, можно сказать, что люди XXI (ложного) века разучились революционизировать. Ведь идею «революции» у нас украли представители глобальной системной элиты, которые постоянно жаждут ущемления наших индивидуальных свобод, искусно скрывая свои ненасытные устремления под видом максимизации трёх постоянно пропагандируемых целей: удобства, скорости и безопасности. Обещание элиты народу совокупного достижения всех трёх этих целей – отличительная черта Четвёртой промышленной (то есть цифровой) революции. Но в перевёрнутом мире, в котором мы живём, «революция» скорее означает «похороны» человека!
Если верно афористичное высказывание французского философа Альбера Камю в его «Опыте об абсурде» [1], что «когда ты чувствуешь, насколько это возможно, свою жизнь, свою революцию, свою свободу, это значит, что ты живешь, насколько это возможно», то присвоение слова «революция» наднациональной элитой для реализации своих, бесчеловечных целей и подавления воли народа вернуть себе урезанную свободу означает, что отныне мы будем жить всё меньше и меньше (качественно и/или количественно).
КОНТРОЛЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ
В то же время, как проницательно отмечает Качиньский в другом своем эссе, опубликованном в 2008 году под названием «Технологическое рабство» [2], техно-индустриальная система (далее: Система) сумела взять под контроль революционные импульсы разочарованных граждан, умело направляя их (через пропаганду СМИ и университетских интеллектуалов, которые поощряют стандартизированную форму восстания [3]) в те каналы, которые служат самой Системе:
Активисты «бунтуют» против старых и устаревших ценностей, которые больше не нужны Системе, и за новые ценности, которые Системе необходимо принять. Таким образом, революционные импульсы, которые в противном случае были бы опасны для Системы, получают выход, который не только безвреден для Системы, но и полезен ей. Это включает, например, борьбу за равенство рас и полов, принятие гомосексуализма и межрасовых браков [4].
Более того, помимо подавления расовой, этнической, религиозной и другой враждебности, Система должна подавлять или манипулировать в своих интересах все другие тенденции, которые могут привести к беспорядкам или волнениям, агрессивным импульсам и любой тенденции к применению насилия. [5] Таким образом, Система воспитывает население, которое является грубым, ненасильственным, прирученным, послушным и покорным [6], так что правительство дня имеет монополию на применение физической силы. [7] По этой причине пропаганда интеграции должна учить нас быть запуганными, чтобы у нас не возникало искушения применить насилие, даже когда мы очень злы [8].
О разумных механизмах поглощения революционного импульса и волнения народа говорили за пятнадцать лет до Качиньского ведущие советские учёные, опубликовавшие коллективный труд о «борьбе идей в современном мире» [9]. Они сделали следующее наблюдение:
Современный капитализм располагает достаточно опытным механизмом власти, достаточно мощным производственно-управленческим механизмом и достаточно изощренными средствами интеллектуального и идеологического воздействия на массы, так что ему не страшны ни левый экстремизм, ни громкие радикально-революционные фразы, ни догматические, абстрактные обличения империализма, ни болтовня о его «тоталитарном разложении» и «дикой разоблачительности», которые нравятся различным маоистским группам и фракциям.
Гораздо более того, буржуазный класс сегодня может позволить себе включить некоторые концепции и формы леворадикальной мысли в сеть своих собственных идеологических конструкций. Он «принимает», в лучшем случае, гиперреволюционную фразу, превращая её в свою защиту от научной критики капитализма, он умело эксплуатирует скандальные, но лестные, экстремистские обвинения в адрес теоретических выводов, бунтарские настроения в адрес революционных.
Конечно, со временем стало очевидно, что дихотомия капитализма и коммунизма является не чем иным, как идеологической дихотомией, созданной духовенством Нового мирового порядка, которая вводила народы в заблуждение, пока мировая элита методично работала над своей вечной целью, а именно подчинением народов под антихристианским зонтиком мирового правительства или, точнее, мировой диктатуры (ср. намек, сделанный во второй части этой статьи).
Что касается, в частности, демонстраций, организуемых во времена крупных кризисов, скандалов, несправедливости и т. д., то их можно сравнить с обезболивающим, которое дают больному раком: оно дает временное облегчение, но не может обратить вспять прогрессирование болезни.
Американский активист Майка Уайт в своей книге «О будущем восстания» [10] писал: «Хватит демонстраций. Организация синхронного марша по всему миру, когда миллионы людей выходят на улицы с единым требованием, — это впечатляющее число, которое привлекает огромную огласку, но неэффективно как метод социальных изменений».
Тот же автор обращает наше внимание на нечто очень важное: как только власти осознают закономерность ритуального протеста, протест немедленно терпит поражение. Баланс сил смещается в сторону движения, но статус-кво оказывается особенно устойчивым, и методы протеста при повторении становятся бесполезными и неинтересными [11]; демонстранты теперь представляют собой приемлемый – и, следовательно, легко игнорируемый – побочный продукт политической сцены [12].
С другой стороны, Уайт признаёт, что: [13] Отсутствие любого протеста крайне опасно для общества. Протест — это симптом необходимости социальных перемен, а люди на улицах — предвестники более сильной демократии. Поддерживаете ли вы протестующих или презираете, история учит нас, что оппозиция необходима для социального развития и коллективного обновления.
И что происходит, когда правительство не отвечает на требования народа? Куда обратиться, когда уличный протест исчерпан и этот путь не ведёт из лабиринта? – задаётся вопросом Уайт, чтобы дать следующий ответ: наша цель как революционеров – предвидеть методы и манёвры, которые нарушат статус-кво [14].
Нельзя не согласиться полностью с афоризмом Уайта о том, что более слабая сторона обычно выходит победителем из конфликта, когда она оригинальна, отказываясь подражать тактике своего более сильного противника. [15] Он добавляет, что, хотя все убеждены в необходимости политических перемен, революции не происходят чаще, потому что мы не знаем, как их осуществить. [16]
Приводя в качестве примера позицию трансгуманистов, которые представляют себе человечество, процветающее в виртуальных мирах и симулированных средах, подключенное к машинам и сосуществующее с искусственным интеллектом, Уайт говорит о всемирном движении людей, которое положит конец престижу и отношению к жизни постоянно растущих трансгуманистов.
Автор не упускает из виду и технологический фактор: [17] Технологии интегрировали человечество в автоматически взаимосвязанную сферу, где революционные настроения и новые методы протеста распространяются быстрее, чем когда-либо в истории. Достигнув своего пика, глобализация преподнесла нам неожиданный дар: коммуникационную сеть, объединяющую сообщества людей во всех уголках Земли.
Мечты о народной революции теперь воплощаются в жизнь в реальном времени. […] Новейшие этапы глобализации — сложные и взаимосвязанные сети связи, транспорта и торговли, обеспечивающие высокие скорости гиперкапитализма, — заперли человечество в автоматическом и «одновременном» мире, где событие, произошедшее где бы то ни было, может иметь значительные последствия повсюду. Одно-единственное, случайное событие, например, протест, нарушающий установленные правила, может вызвать глобальное цунами.
Однако быстрый протест — это одно, а революция — другое. Уайт утверждает, что: [18] «Быстрые» протесты будут происходить всегда, возможно, даже чаще. Но отдельных и повторяющихся «быстрых» событий недостаточно для революции. Медленное течение времени — вот что гарантирует историческим событиям смысл, продолжительность и освобождающую силу.
Ударь систему по больному месту
Качиньский отмечает, что гражданам, которые действительно хотят нанести сильный удар Системе, придётся бить её по больному месту, по самым чувствительным и жизненно важным органам, всегда законными средствами, такими как мирные протесты [19]. В противном случае, если сопротивление граждан будет сосредоточено на одном из кулаков Системы, она немедленно и безболезненно залечит полученный удар, совершая какие-то манёвры или уступки. Если, например, активисты-экологи начнут организовывать протесты против лесной промышленности или загрязнения окружающей среды, всё, чего они добьются, – это подтолкнуть Систему к принятию мер, которые смягчат неблагоприятный антисистемный климат. Согласно вдохновенной притче Качиньского: [20]
Ударить по Системе – всё равно что ударить по куску резины. Удар молотком может разбить чугун, потому что чугун жёсткий и хрупкий. Но удар по куску резины ничего с ним не сделает, потому что он гибкий. Он поддаётся удару молота и тут же возвращается в исходное положение, как только молот прикладывает к нему силу. То же самое происходит и с «демократической» промышленной системой: она поддаётся протесту, настолько, что тот теряет свою силу и импульс. Таким образом, Система восстанавливается.
Итак, если вы хотите ударить Систему по больному месту, вам придётся выбирать вопросы, по которым Система не отступит, по которым она будет бороться до конца. Потому что требуется не компромисс с Системой, а борьба с ней не на жизнь, а на смерть.
(Продолжение…)