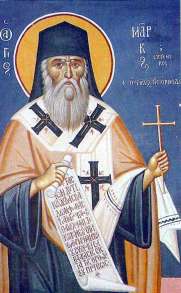Технология как «мостовая» для индивидуальной свободы – Часть 4
Автор — г-н Константинос Вафиотис, бывший доцент юридического факультета Салоникского университета.
ЧАСТЬ 4
ПРОРОЧЕСТВО СНА ХАКСЛИ
Надежды на революционное свержение «разумной глобальной диктатуры», подобной той, которую мы, похоже, переживаем в середине третьего десятилетия XXI века, искусно использующей достижения науки и техники, крайне малы. Решающее значение имеет мрачное пророчество, сформулированное английским писателем Олдосом Хаксли в книге «Возвращение в дивный новый мир»: [1]
Прежние диктаторы были свергнуты, потому что не могли дать своим подданным достаточно хлеба, зрелищ, чудес и тайн. Кроме того, у них не было по-настоящему эффективной системы контроля над мыслями. В прошлом свободомыслящие часто были продуктом самого благочестивого православного образования. Это нас не удивляет. Методы, используемые православными педагогами, были и остаются исключительно неэффективными.
Однако при научно организованном диктаторе образование будет работать по существу, в результате чего большинство мужчин и женщин привыкнут любить своё рабство и никогда не подумают о восстании. Похоже, нет никаких веских причин, по которым научно обоснованная диктатура когда-либо может быть свергнута.
Как характерно подчёркивает Хаксли: [2] Вполне возможно, что человек находится за пределами тюрьмы и не свободен. Не находится под физическим принуждением и всё же психологически пленён. Быть вынужденным думать, чувствовать и действовать так, как представители государства или каких-то частных интересов внутри страны хотят, чтобы он думал, чувствовал и действовал. […] Природа психологического принуждения такова, что у тех, кто действует под принуждением, остаётся впечатление, что они действуют по собственной инициативе. Жертва ментальной манипуляции не знает, что он жертва. Для него стены его тюрьмы невидимы, и он сам верит, что он свободен. То, что он не свободен, очевидно только другим. Его рабство строго объективно.
Как же прав был Кафка, когда просто и лаконично написал цитату: «Нельзя разорвать цепи, которые не видны» [3].
Вот последние слова Хаксли, которые представляют собой исключительно актуальное обращение ко всем гражданам, девиз которых: «Поработите нас, но накормите нас»: [4]
Действительно, многие молодые люди, похоже, не ценят свободу. Тем не менее, некоторые из нас всё ещё верят, что без свободы человек не может быть полноценным человеком, и поэтому свобода — высшая ценность. Возможно, силы, угрожающие свободе, слишком сильны, чтобы мы могли долго им противостоять. Но наш долг — сделать всё возможное, чтобы противостоять им.
Когда герой Оруэлла Уинстон Смит обратился к О'Брайену, заявив ему, что тоталитарный режим Океании в конечном итоге рухнет, он получил от последнего следующий ответ: [5]
Мы контролируем жизнь, Уинстон. Мы контролируем её во всех её проявлениях. Ты воображаешь, что существует так называемая человеческая природа, которая, если мы её нарушим, обратится против нас. Но человеческую природу мы создаём сами. Люди очень податливы. Возможно, ты вернулся к своей старой идее, что пролетарии или рабы восстанут и свергнут нас? Выбрось это из головы. Они слабы, как животные. Человечество — это Партия. Остальные — аутсайдеры, не имеющие значения.
ДВА СЦЕНАРИЯ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В своём антитехнологическом манифесте Качиньский пытается предсказать, каким станет будущее человечества в условиях сосуществования с технически продвинутыми машинами, которые «смогут делать всё лучше, чем люди» [6]. По его словам, появились два основных сценария, которые стали камнем преткновения в науке, особенно с начала XXI века: [7]
Согласно плохому сценарию, машины будут принимать решения без человеческого контроля (см. в разделе А), тогда как в хорошем сценарии (который можно разделить на три подсценария в зависимости от того, какую позицию займет элита: безжалостную, гуманную или сострадательно-либеральную), люди сохранят над ними контроль (см. в разделе Б).
ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ
В контексте плохого сценария Качиньский пишет следующее: [8] Если машинам позволят принимать все решения, мы не сможем делать никаких прогнозов о результатах, потому что невозможно предсказать, как эти машины поведут себя. Мы лишь отмечаем, что судьба людей будет во власти машин. Мы можем утверждать, что человечество никогда не будет настолько глупо, чтобы передать всю свою власть машинам.
Однако мы не утверждаем, что человечество добровольно передаст свою власть машинам или что машины приобретут эту власть намеренно. Мы говорим о том, что человечество может легко позволить себя сбить с толку и оказаться в такой зависимости от машин, что у него практически не останется иного выбора, кроме как принять их решения. По мере того, как общество и проблемы, с которыми оно сталкивается, становятся всё сложнее, а машины — всё более интеллектуальными, люди будут позволять машинам принимать всё больше решений за себя просто потому, что решения машин будут иметь лучшие результаты, чем решения людей.
В конце концов, пишет Качиньский, мы достигнем стадии, когда решения, необходимые для работы системы, будут настолько сложными, что люди не смогут принимать их разумно. На этом уровне машины будут осуществлять реальный контроль. Люди просто не смогут их остановить, потому что будут настолько зависимы от них, что остановить их будет равносильно самоубийству.
Плохой (или, скорее, злой), конечно, также сценарий подключения человеческого мозга к электронным компьютерам. Это развитие событий также рассматривается Качинским в его эссе «Прогресс против свободы» [9]: «Как только человеческая механика, подключение человеческого мозга к электронным компьютерам и другие [подобные] вещи получат широкое распространение, люди, вероятно, изменятся настолько, что больше не смогут существовать как независимые существа, ни физически, ни ментально».
Качиньский объясняет: «Действительно, технологии уже сделали для нас невозможным жить физически независимыми существами, поскольку навыки, позволявшие первобытному человеку жить на открытом воздухе, были утрачены. Мы можем выжить, только действуя как части огромной машины, которая заботится о наших физических потребностях, и по мере того, как технологии вторгаются в пространство разума, можно с уверенностью предположить, что люди станут психологически зависимыми в той же степени, в какой они сейчас зависят от них физически. Мы уже видим начало этой эволюции в неспособности некоторых людей избежать скуки без телевизора и в потребности других принимать транквилизаторы, чтобы справиться с напряжением современного общества».
Несколькими страницами позже [10] Качинский снова упоминает о связи человеческого мозга с электронными компьютерами в сочетании с устройствами, улучшающими интеллектуальные или психологические способности (например, биологической обратной связью, таблетками для памяти), предупреждая читателя об их опасности для свободы, даже если их использование необязательно. Вот почему: [11]
Например, конечно, не каждый сможет иметь в подвале собственный суперкомпьютер, к которому можно будет подключить свой мозг. Лучшие электронно-вычислительные мощности зарезервированы для тех, кого общество считает наиболее достойными: государственных служащих, учёных и т.д. Таким образом, и без того могущественные станут ещё могущественнее.
Сосредоточившись, таким образом, на вопросе добровольности, Качиньский пишет: [12] Более того, использование подобных устройств, расширяющих интеллектуальные возможности, не останется необязательным. Все современные удобства были представлены нам как необязательные блага, которыми можно было пользоваться по собственному выбору. Тем не менее, в результате появления таких благ общество изменило свою структуру таким образом, что использование современных удобств стало обязательным.
Ведь, конечно, невозможно жить в современном обществе, не прибегая к широкому использованию устройств, предоставляемых технологиями. Аналогичным образом, использование устройств, повышающих интеллектуальные способности, хотя и номинально необязательно, станет де-факто обязательным.
Когда эти устройства достигнут высокого уровня развития и станут предметом широкого использования, человек, отказывающийся от их использования, поставит себя в положение бессловесного животного в обществе сверхлюдей. Жить в обществе, функционирующем исходя из предположения, что большинство людей обладают значительно возросшими интеллектуальными способностями, будет просто невозможно.
В силу своей мощи устройства, расширяющие интеллектуальные возможности человека или изменяющие его личность, должны будут регулироваться обширными правилами и предписаниями. Таким образом, человеческий разум всё больше становится артефактом, созданным такими устройствами, в то время как эти правила и предписания […] будут определять структуру человеческого разума.
Но и всемирно известный технократ в области информационных технологий Билл Джой в своём популярном эссе «Технологии XXI века: почему будущее не нуждается в нас» [13], опубликованном в 2000 году, неоднократно говорил о трёх (ныне широко открытых) «новых ящиках Пандоры»: генетике, нанотехнологиях и робототехнике. В частности, он отмечает: [14]
Вторая мечта робототехники [SS: первая мечта о создании интеллектуальных роботов] заключается в том, что мы постепенно заменим себя нашими роботизированными технологиями и станем практически бессмертными, загрузив своё сознание. Дэнни Хилис полагает, что мы постепенно привыкнем к этому процессу, и Рэй Курцвейл подробно описывает его в своей книге «Эпоха одухотворённых машин». Но если мы загрузим себя в наши технологии, каковы шансы, что мы с этого момента останемся собой или даже продолжим быть людьми? Мне кажется более вероятным, что роботизированное существо не будет похоже на человека ни в каком из доступных нам смыслов, что роботы ни в коем случае не будут нашими детьми, и что таким образом человечество вполне может прекратить своё существование.
Примечательно, что некоторые из тех, кто опасается, что «к 2045 году автономные роботы превзойдут человеческий вид во всех [формах] умственных способностей» [15], ищут свою последнюю надежду в «слиянии человека и машины с имплантатами в мозг человека, которые дадут ему возможность управлять машинами по беспроводной связи и обогатят его разум возможностями искусственного интеллекта. Постчеловек в новом издании» [16].
Однако, как отмечает Петрос Папаконстантину [17], научные исследования в этой области начались ещё в 1970-х годах в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) при финансировании исследовательского агентства Пентагона DARPA. Исследователи стремились использовать пластичность человеческого мозга, позволяющую ему обрабатывать сигналы, передаваемые электронными имплантатами, так, как если бы они исходили от органов чувств самого тела.
Первые имплантаты такого типа появились в 1990-х годах. Изначально исследования ограничивались животными, но в 2006 году Мэтью Нэгл стал первым пациентом, страдающим тяжёлым параличом из-за серьёзной травмы спинного мозга, который смог управлять электронным компьютером благодаря имплантату [18].
К сожалению, роль имплантатов не ограничивается улучшением здоровья больного, но и полностью здорового человека. Здесь мы как раз находимся в области трансгуманизма, где активно работает Илон Маск, владелец мессианского проекта Neuralink [19].
Опасения словенского философа Славоя Жижека понятны, ведь он предупреждал о новой опасности – цифровом апартеиде, то есть разделении людей на господ и рабов новых технологий, – о чём-то неизмеримо более кошмарном, чем самые глубокие классовые различия в истории человечества. […] Приближаемся ли мы к новой эре человечества, где, как ни парадоксально, жизнь вне цифрового пространства станет привилегией немногих? В таком мире привилегированными будут те, кто регулирует цифровое пространство, не будучи включённым в него [20]. (Продолжение…)
Примечания
[1] Μτφ.: Στ. Παϊπέτης, ἔκδ. Μέδουσα, Ἀθήνα 2014. [2] Huxley, ὅ.π., σελ. 161. [3] Κάφκα, Ἀφορισμοί, μτφ.: Β. Ρούπας, ἔκδ. Ροές, Ἀθήνα 2009, σελ. 38. [4] Huxley, ὅ.π., σελ. 174. [5] Ὄργουελ, 1984, μτφ.: Ν. Μπάρτη, ἔκδ. Κάκτος, Ἀθήνα 1978, σελ. 266. [6] Καζύνσκι, Ἡ βιομηχανικὴ κοινωνία καὶ τὸ μέλλον της, μτφ.: Σ. Γιαννέλης, ἔκδ. Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019, σελ. 149. [7] Βλ. Τζόυ, Τεχνολογίες 21ου αἰώνα: Γιατί τὸ μέλλον δὲν μᾶς χρειάζεται, μτφ.: Σ. Γιαννέλης, ἔκδ. Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019, σελ. 17 ἑπ. = Ἡ ἀπολογία τοῦ ἐπιστήμονα, NPQ, τεῦχ. 15, Καλοκαίρι 2000, σελ. 10 ἑπ. [8] Καζύνσκι, ὅ.π. [9] Ἔκδ. Κοίν.Σ. Ἔπ. Ἔξοδος, Ἀθήνα, 2023, σελ. 32. [10] Καζύνσκι, ὅ.π., σελ. 45. [11] Καζύνσκι, αὐτόθι. [12] Καζύνσκι, αὐτόθι. [13] Μτφ.: Σ. Γιαννέλης, ἔκδ. Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019 = Ἡ ἀπολογία τοῦ ἐπιστήμονα, NPQ, τεῦχ. 15, Καλοκαίρι 2000, σελ. 10 ἑπ. [14] Τζόυ, ὅ.π., σελ. 39/40. [15] Παπακωνσταντίνου, ὅ.π., σελ. 275/276. [16] Παπακωνσταντίνου, αὐτόθι. [17] Παπακωνσταντίνου, ὅ.π., σελ. 276. [18] Παπακωνσταντίνου, αὐτόθι. [19] Παπακωνσταντίνου, ὅ.π., σελ. 277. [20] Παπακωνσταντίνου, ὅ.π., σελ. 278.
Источник: https://orthodoxostypos.gr/ /ἡ-τεχνολογία-ὡς-ὁδοστρωτήρας-τῆς-2/