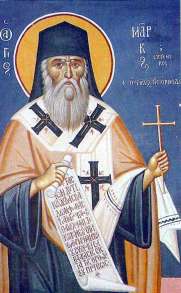Экономическая элита и экуменизм

Как в США с помощью экономической олигархии сформировался экуменизм.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ЭКУМЕНИЗМ
Экуменизм торжествует, потому что мощные экономические факторы, оказывающие огромное влияние на политику, обеспечивают непоколебимую поддержку и обильное финансирование.
Написал старец Паисий Кареотис.
и преподобный Епифаний Капсалиотис
24 октября в Риме с большим успехом прошла презентация новой книги издательства «Теозис» сестры Олимпии Фронцони, организованная при участии сотрудника Ветхого Завета, г-на Георгиоса Каралиса, под названием «Православная экклезиология и украинский раскол». Мероприятие посетило большое количество людей – православных итальянцев, русских, болгар и румын, проживающих в Италии. В ходе мероприятия было представлено пять докладов, посвященных ереси экуменизма и украинскому вопросу.
Презентация, представленная ежедневной газетой Orthodox Press, была опубликована в предыдущем номере под заголовком « Фанар под полным контролем американской дипломатии ». В этом номере мы публикуем выступление старца Паисия Кареотоса и монаха Епифания Капсалиотоса, а в следующих номерах будут представлены выступления господина Георгиоса Каралиса и Василиоса Тулумциса, а также выступление иеромонаха Дионисия Силионова, сделанное онлайн.
Следует отметить, что на мероприятии царило сильное чувство братской любви, охватившее всех присутствующих, а также любви и уважения к выступающим. Также была вновь подтверждена высокая оценка газеты «Православная пресса», которую все знали как православное, традиционное и боевое издание. В связи с этим поблагодарим организаторов мероприятия за любезное приглашение О.Т. высказать свои мысли. Помолимся о том, чтобы Господь защитил и благословил сотрудников издательства «Теозис» в их нелегком труде распространения Православия в центре папизма – Италии, и чтобы они успешно продолжали свою деятельность.
* * *
Православный мир потрясен украинским вопросом: по сути братоубийственной гражданской войной, которая приняла свою окончательную форму после господства на Украине неонацистской идеологии, что стало возможным благодаря активной вовлеченности в нее Запада.
Однако это кризис, который, помимо прочего, также глубоко церковный. Кризис, выносящий на поверхность патологии, которые больше невозможно скрывать, как это было до сих пор. Патогены, связанные с диполем Восток-Запад, диполем, который, на наш взгляд, описывает не просто более широкие географические или даже геополитические определения, но и совершенно различные мировоззрения. В этом смысле «Запад» проявляется в частях (географически определяемого) Востока, в то время как «Восток» далее выделяется в частях (географически определяемого) Запада… Говоря о географически определяемом «Востоке», мы, конечно же, имеем в виду православный мир, а не Дальний Восток (то есть Азию).
Поэтому необходимо провести исследование, которое должно изучить, тщательно изучить, как структурировался – по крайней мере, современный – облик «Запада» (понимаемого как целостное мировоззрение), и какими средствами его принятие навязывается абсолютно Иным, мировоззрением «Востока». Поэтому необходимо определить западное мировоззрение, его истоки и то, как они сочетались с крупными политическими и экономическими целями в планетарном масштабе, как единая проекция власти. Понимание этих вопросов – абсолютно важная задача, поскольку оно может продемонстрировать причину более общего внутриправославного кризиса...
С начала 2000-х годов в области изучения международных отношений и дипломатии на Западе появилась инструментализация религии как опоры власти, поскольку она рассматривалась как компенсатор упадка политической идеологии, произошедшего после окончания Холодной войны. Тогда же родился термин «мягкая сила», подразумевающий реальную опору навязывания власти, но не в области грубой силы (насилия), которая состоит из военной силы и всех видов политических мер по навязыванию этой власти, а в области убеждения, которое, следовательно, более непосредственно связано с более «мягким» продвижением позиций, а также пропагандой, с главной объективной целью — переформатировать общественное сознание в желаемом направлении.
На вопрос, какую (новую) роль призваны играть Церковь и теология в рамках ее инструментализации, ответ прост: как (политически эксплуатируемая) опора мягкой силы, Церковь используется в целях западной трансформации «восточного» общества, путем навязывания ему доминирующей западной модели, которая предполагает принятие «западных» ценностей разнообразия, релятивизацию традиций посредством так называемого культурного диалога и полное отторжение Православия (если говорить именно о странах, где Православие доминирует) из «публичной сферы», устранение из Православия дискурса обо всем, что не считается строго «богословским».
Если сказанное до сих пор кажется вам расплывчатым или общим, давайте зададим несколько вопросов, которые прольют свет на то, что мы хотим сказать и почему мы подходим к церковным проблемам именно таким образом:
Почему, например, в основных христианских конфессиях существует единая новая теология, образующая теологический минимализм, фундаментальное согласие между ними?
Как и где была создана эта новая теология? Является ли она подлинной внутрихристианской попыткой решить проблему разделения христианского мира или же представляет собой дополнительный способ навязывания политических решений, гомогенизирующих народы и традиции?
Связаны ли общие черты нового богословия с изначальным содержанием христианского Откровения, выраженным в Священном Писании и достоверно изложенным на Вселенских Соборах Церкви и Отцами Церкви?
Наконец, как (пере)определяется концепция церковного Предания в рамках экуменического богословия, которое по сути является новым богословием?
Мы должны работать в первую очередь в богословском плане, но не создавая «богословие в вакууме», как будто богословские сочинения оторваны от исторических событий и факторов, которые их создают, а, скорее, мы должны соотносить богословские проблемы с более широким контекстом, в котором они возникают и который по сути ими руководит...
Поэтому исследование церковных или богословских проблем должно идти дальше, чтобы понять основополагающие принципы, составляющие более широкий контекст, в котором возникают интересующие нас конкретные церковные вопросы (например, вопрос церковного первенства, украинский вопрос, вопрос экуменизма, вопрос церковного единства и т. д.). Мы не стремимся к философскому исследованию, но, прежде всего, говорим о понимании более широкого контекста, в котором возникают и развиваются интересующие нас проблемы. Другими словами, мы говорим об общей картине, в рамках которой проявляются отдельные её части.
И общая картина, к сожалению, НЕ теологическая! Иначе говоря, её исходная точка не теологическая… Более того, это и есть важнейшая проблема секуляризации теологии и Церкви в целом: современные богословские и церковные искания (такие как вопросы христианского единства, разделения и т.д.) выражают более глубокие политические и экономические планы, реализуемые с помощью людей и через Церковь; людей, глубоко связанных с этими интересами, даже зависящих от них.
На вопрос, какой интерес может представлять поиск политических и экономических корреляций в церковных делах, ответ прост: он нас интересует, потому что они представляют собой те важнейшие факторы, которые направляют новые тенденции, укрепляют их и, по сути, разрушают богословие Церкви, её аскетизм, путь спасения. Церковная вера, составляющая преемственность Предания, которая и есть наша идентичность, которой, в конечном счёте, являемся мы сами, разрушается!
«Общая картина»
Итак, давайте перейдем к пониманию «общей картины»...
Запад воспринимает Православие, главным образом, как культурное, а не просто как религиозно-церковное образование, и управляет им концептуально, исключительно в чисто политических терминах. Горький опыт югославской войны показал православным народам, с чем им пришлось столкнуться после победоносного для Запада окончания холодной войны. Распад Советского Союза – аналогичный распаду Югославии, но в гораздо большем масштабе – подтвердил опасения: Запад верно следует доктрине выдающегося Сэмюэля Хантингтона, наиболее известного своей работой «Столкновение цивилизаций», центральный тезис которой заключается в следующем:
Во времена холодной войны конфликт разгорался между капиталистическим Западом и коммунистическим Восточным блоком. Однако сегодня он, скорее всего, возникнет между основными мировыми культурами: семью существующими (i) западной, (ii) латиноамериканской, (iii) исламской, (iv) китайской, (v) индийской, (vi) православной, (vii) японской и возможной восьмой (viii) африканской.
На этой основе он сформулировал, как Запад противостоит масштабам Православия: в чисто геополитическом плане; «если Россия станет Западной, православная цивилизация перестанет существовать», — замечает Хантингтон.
Метод, который он предлагает в противовес быстрой политической либерализации не-западных цивилизаций на Западе, заключается в постепенной либерализации, то есть в постепенной интеграции государств, обществ и религий в доминирующие западные концепции: либерализм и рынок без границ и ограничений, имеющие в качестве отправной точки космополитический интернационализм, который решительно выступает против концепции национального суверенитета и независимости.
Целью, таким образом, становится «душа» общества, а средством – постепенная интеграция в западные ценности посредством культурного проникновения. Результат известен: секуляризация фундаментальных основ общества, среди которых, пожалуй, самое важное – его религиозная идентичность, что означает разрыв с привычной Традицией и принятие фундаментальной либеральной идеи индивидуализма, которая, в свою очередь, необходима для формирования потребительской культуры, служащей точкой отсчёта для американской модели, которую она должна копировать.
Хантингтон также указывает на важность религиозной идентичности, когда, говоря о Европе, различает западное и восточное христианство, с одной стороны, объединяя папство и протестантизм, а с другой — оставляя православие. Когда Хантингтон говорит о «западном христианстве», он имеет в виду его либеральную форму, навязанную Европе США после Второй мировой войны.
Фактически, Хантингтон предупреждает, что нелиберализация религии (в интересующем нас случае – православия) не может не подорвать процесс модернизации целевой страны-общества, рискуя разрушить весь план.
Недавняя попытка постепенной политико-экономико-культурной интеграции, продвигаемой Западом, – это случай Украины, где вопрос православия был инструментом, что привело к созданию там новой автокефальной церкви. Как характерно отмечает известный богослов, выражающий позицию Фанара (Иоаннис Лоциос), «автокефалия – важное и в то же время историческое событие, связанное с европейским развитием. Усилия Вселенского Патриархата по продвижению этой автокефальной церкви дают народу право идти единым и сильным путём, одновременно внося вклад в развитие европейского православного сообщества в рамках Европейского Союза. Эта новая автокефальная и европейская церковь может многое предложить…»
Иными словами, цель заключается в поглощении самобытной православной идентичности наднациональным образованием (Европейским Союзом), вдохновлённым западными либеральными ценностями. Более того, ещё с «далёкого» 2015 года (спустя год после Майдана и начала войны на востоке Украины) украинский богослов-унитарианин (Михайло Черемков), текст которого переиздаёт (!) упомянутый греческий богослов, описывал конфликт с Россией, используя исключительно политическую теорию Хантингтона, который подчёркивал: «В определённом смысле, уже не Россия как страна, а русское православие как наднациональное движение представляет собой геополитический фактор (с которым необходимо бороться)». Однако позиция в пользу украинской автокефалии не лицемерна с точки зрения её целей; важнейшая статья обсуждаемого нами греческого богослова, опубликованная до предоставления автокефалии, называлась «Геополитическая стратегия объединительного собора»!
Следовательно, мы ищем политико-экономико-культурную интеграцию, которую продвигает Запад, и нам следует искать, как и какими средствами эта цель может быть достигнута, учитывая роль религии в этом.
Здесь почти автоматически возникает вопрос о межконфессиональном экуменизме и его истоках, чтобы через них понять его значение в перестройке европейской идентичности (после окончания Второй мировой войны), то есть перестройке, которая поставила целью принятие новой модели, навязанной США, единственной страной, вышедшей из войны невредимой, экономически мощной и единственной способной оказать экономическую помощь опустошенным странам Западной Европы.
США и процессы формирования либерального экуменического духа
Прежде всего, необходимо уточнить библиографию по экуменическому движению: в ней экуменические организации, личности и хронологии описываются почти каталогически, без малейшей связи с внецерковными центрами, личностями и какими-либо целями. Они представляются как якобы подлинное вдохновение Святого Духа, призывающего разделённых христиан к единству. Но к какому единству и как?
Здесь мы должны рассмотреть развитие событий в самих Соединённых Штатах до Второй мировой войны, когда именно там формировалось будущее экуменизма, каким мы его знаем сегодня. А именно, период с 1900 по 1930 год.
Действительно, либеральный дух, вдохновляющий экуменизм, обрёл в США мощного защитника, а также людей на ключевых позициях, которые вместе смогли сформировать необходимые властные отношения, чтобы преобладать в церковной среде и дать отпор традиционным силам. Однако люди, стоявшие за либеральным экуменизмом, имели в своих руках мощный механизм: мы имеем в виду организацию YMCA (Ассоциация молодых христиан) и её не менее могущественного лидера Джона Мотта (Мотт, 1865–1955).
Несколько слов о Мотте. Мотт, наиболее известный как «отец экуменического движения», был методистом и с 1915 по 1928 год занимал пост генерального секретаря Международного комитета YMCA, а с 1926 по 1937 год занимал пост президента Всемирного комитета YMCA. Он был основателем и первым президентом Всемирной федерации студенческих христианских ассоциаций (WSCF, 1895), которая, по сути, являлась университетским отделением YMCA. Впоследствии он председательствовал на Эдинбургской конференции 1910 года (официальном начале Экуменического движения), которая привела к основанию Международного миссионерского совета (IMC, 1921), президентом которого он снова стал. Он также был членом руководства Оксфордской конференции «Жизнь и деятельность» в 1937 году (которая в 1948 году была включена в качестве соответствующей комиссии в ВСЦ) и, наконец, стал вице-президентом временной комиссии ВСЦ.
В частности, YMCA, которой руководил Мотт, воплощала в себе наиболее либеральный дух американского протестантизма и стала международным инструментом продвижения двух центральных осей либерального протестантизма: «социального евангелия» и экуменизма. В своём Уставе (Париж, 1855 г.) она зафиксировала догматическую веру в единство христианских церквей, и YMCA — это способ выражения этого единства! Под «социальным евангелием» мы подразумеваем протестантский взгляд на применение евангельских принципов к труду. В США, особенно до 1930-х годов, потребности, охватываемые «социальным евангелием», были колоссальными: широкое использование детского труда, отсутствие государственной социальной помощи, отсутствие трудового законодательства. Крайняя нищета в рабочих трущобах, вызванная мизерной заработной платой, и все, что из этого вытекает (коррупция, насилие, развитие революционных тенденций и т. д.), формировали все более взрывоопасную социальную ситуацию, которая усугублялась частыми экономическими кризисами, вызванными процессом формирования огромных монополистических групп, которые сегодня сравнивают с «Диким Западом американского капитализма».
Таким образом, YMCA неустанно трудилась вместе с другими церковными организациями (например, Армией спасения), оказывая помощь трудящимся массам и, что самое главное: добиваясь долгожданного социального мира , которого требовал Капитал, финансировавший деятельность YMCA, чтобы процесс превращения крупных корпораций в монополистические группы не прерывал ту критическую эпоху (1880-1920).
Именно здесь и кроется переплетение олигархов, церковных организаций и лиц, стоявших у руля. В рассматриваемый нами период (1900–1930) наиболее известными были отношения Мотта с семьёй Рокфеллеров, владельцев крупнейшей в мире нефтяной компании Standard Oil.
Мотт, занимая пост лидера YMCA, тесно сотрудничая с Рокфеллерами (отцом и сыном), руководил изоляцией радикальных элементов внутри движения «Социальное евангелие» (которые требовали больших прав трудящихся, которые работодатели не хотели предоставлять), а также работал над формированием условий обращения протестантизма в Соединенных Штатах в либеральное русло, что означало его секуляризацию, тем самым делая его конкурентом социалистическим идеям, которые в начале XX века были очень распространены среди бедных европейских иммигрантов и вызывали ужас у работодателей.
Секуляризация, таким образом, стала важнейшим процессом, который должен был превратить протестантские церкви из «устаревших» доктринальных конфессий в современные буржуазные общественные силы, способные гарантировать социальный мир, а не тупиковые – бесконечные – доктринальные противостояния. Поэтому дополнительной целью стало устранение доктринальных противостояний посредством устранения доктринальных противоречий между церквями. Именно в этой центральной точке пересеклись социальное евангелие и экуменизм: в преобразовании церквей в новый – модернизированный – тип структур, который способствовал бы их интеграции в новую американскую модель, задуманную Рокфеллерами, главными представителями крупного промышленного и банковского капитала.
В этом контексте малоизвестный теологический спор между традиционными и либерально-модернистскими протестантами, возникший первоначально в методистской церкви, а затем и во всех основных протестантских церквях США в 1920–1930-х годах, стал кульминацией борьбы между ними, начавшейся в двадцатилетнем периоде (1890–1910 гг.). Сторонники этого течения стремились к отказу от доктринальных положений, отличавших методистов от других протестантских конфессий, и, по сути, к теологическому минимализму, акцентируя внимание на адаптации веры к новым научным открытиям и новым этическим требованиям эпохи. Другими словами, они стремились к «модернизации» церкви.
Целью модернистов было переосмысление Евангелия в свете современной науки и философии, а также свобода принятия или непринятия центральных положений учения (например, учения о непорочном зачатии Христа). Традиционалистов критиковали за регрессивность и нетерпимость фундаментализма (как характеризовали традиционалисты), не допускающего доктринального многообразия и различий.
В результате к концу 1930-х годов сторонники теологического либерализма фактически одержали победу: модернисты контролировали все основные университетские теологические школы, ведущие издательства и иерархию крупнейших протестантских церквей США. Традиционалисты (то есть фундаменталисты) отошли от дел, основав более мелкие издательства, университеты и теологические школы.
Роль сына Рокфеллера в этой полемике была огромна. Прежде всего, благодаря стабильному финансированию YMCA, которая служила движущей силой модернистов в этой борьбе, контролю над университетами, а также созданию – впервые в США – надконфессиональной протестантской организации, объединившей модернистские силы: Всемирного межцерковного движения (IWM). Неудивительно, что президентом этого движения снова стал... Мотт!
Рокфеллер придавал этому Движению огромное значение. Общаясь со своими богатыми друзьями, он просил их о финансовой помощи для укрепления ИМД, а не отдельных протестантских церквей, поскольку, как он характерно писал своему богатому другу:
Я не знаю лучшего страхового полиса для бизнесмена, для безопасности его инвестиций, процветания страны и будущей стабильности нашего правительства, чем это Движение.
Движение оказалось решающим фактором, поддерживавшим, расширявшим и направлявшим распространение конфликта между традиционалистами и либералами-модернистами за пределы его первоначальных границ, за пределы пресвитерианской церкви, на все основные протестантские церкви США. Характерные черты Движения, по сути, являющегося предшественником Всемирного совета церквей (ВСЦ), однако, позволяют считать его не просто предшественником, как обычно характеризуют подобные инициативы, а шагом к конечной цели.
Целью Движения с самого начала была подготовка почвы для следующего шага. По сути, оно представляло собой переходный механизм, который исследовал и направлял существующие возможности для объединения протестантских церквей, координируя действия и инициативы, объединяя в единое целое тех, кто хотел этого из отдельных церквей, то есть тех, кто был вдохновлён экуменическим духом, новым учением экуменизма и «социальным евангелием», столь выгодным Рокфеллеру и крупным экономическим кругам.
Что касается конкретных церковных особенностей Движения, сам Рокфеллер объяснил свою роль следующим образом:
«Движение не ставит своей целью создание суперцеркви, это не более чем сотрудничество самих церквей посредством этого простого механизма, который они сами создали и контролируют».
Характеристика Движения как «механизма» показательна. Парадоксально, но данное определение в точности совпадает с тем, которое до сих пор официально продвигают PSE и её сторонники: PSE не является сверхцерковью…
Гиперконфессиональный характер организаций, которые финансировал Рокфеллер, был не просто выбором, а следствием его глубокой убеждённости в необходимости христианства меняться и преодолевать конфессиональные и доктринальные различия. Например, в речи, произнесённой им перед студентами-членами YMCA Университета Брауна ещё в 1894 году, он ясно дал понять:
«Христианин остается христианином независимо от того, к какой церкви он принадлежит».
Таким образом, Движение состояло из людей с новым миссионерским видением, которое экуменизм принёс с собой – Социальным Евангелием. Его лидером был Мотт, и, что самое важное, оно получало огромное прямое финансирование от Рокфеллеров. Это те же люди – что касается США – которые также укомплектовали штат IMC, основанного Моттом в 1921 году, воплощая решения Эдинбургского конгресса 1910 года, превратив его в организацию, которая интернационализировала новый миссионерский дух либерального протестантизма и несла новый американский дух за пределы США. В конце концов, финансисты нового предприятия были те же самые…
Вот почему экуменизм торжествует: потому что мощные экономические факторы, имеющие огромное влияние и на политику, предлагают безраздельную поддержку и щедрое финансирование организациям, которые его продвигают, и людям, которые его пропагандируют.
Создание PSE
Уже в предвоенные годы США имели решающее присутствие в трёх основных экуменических организациях: Международном миссионерском совете (IMC), движении «Вера и порядок» и движении «Жизнь и работа», прояснив прежде всего «внутренний фронт»: либеральную форму протестантизма в самих США. С 1937 года они готовились к предстоящим событиям: нью-йоркский офис ВСЦ уже принял на себя основное финансовое бремя формирующейся организации. Рокфеллер вновь оказал немедленную и щедрую финансовую поддержку.
Совершив вынужденный скачок из-за нехватки времени к ситуации после Второй мировой войны, мы, как и ожидалось, столкнемся с теми же факторами, которые способствовали созданию ВТО, что в конечном итоге было достигнуто в 1948 году, с ее первым генеральным секретарем доктором Виссером т'Хоофтом, который одновременно был секретарем Всемирного комитета YMCA (при Мотт в качестве президента), а также генеральным секретарем WSCF (опять же при Мотт в качестве президента)... Мотт снова сыграл решающую роль в создании ВСЦ, который за его неоценимые заслуги перед Экуменическим движением и самим ВСЦ удостоил его звания пожизненного президента.
США теперь, бесспорно, стали ведущей державой Запада, даже на пути к столкновению с ранее союзным Советским Союзом. Доктриной, определившей рамки конфликта, стала известная «доктрина Трумэна» (март 1947 г., президент США Гарри Трумэн), а рычагом давления для её укрепления (укрепления) в европейских странах – «план Маршалла», то есть экономическая помощь США Европе. Доктрина Трумэна и план Маршалла функционировали взаимодополняюще; первая составляла геополитическую основу второго. Открыто провозглашённой целью плана Маршалла (начатого в 1948 г.) было снижение межгосударственных барьеров и экономическое объединение Западной Европы, что создало бы условия для последующего политического объединения Европы.
В то же время, в ВСЦ, благодаря сильному представительству и огромному финансированию, либеральные американские протестантские церкви стали доминирующей силой. Таким образом, после 1948 года Экуменическое движение, вновь обретя центральный институциональный орган, поглотивший комитеты «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и труд» (МЦК «по совпадению» был поглощён в 1961 году, сразу после вступления Восточноевропейских православных церквей; пусть читатель поймёт это), быстро стало инструментом долгосрочных планов Соединённых Штатов относительно будущего (Западной) Европы. Европы, которой пришлось адаптироваться к новым условиям и перевоспитываться в либеральных ценностях американской версии демократии.
Действительно, продвижение «ценностей» западной демократии было одной из главных целей молодого Всемирного совета церквей (ВСЦ), и он зашёл так далеко, что отождествлял её, как и свою экономическую систему, с человеческой свободой, достоинством и христианством! Джон Даллес (впоследствии госсекретарь США в 1953 году при администрации Эйзенхауэра) был автором одного из текстов (который готовился с начала 1946 года) Комиссии отдела исследований ВСЦ и был представлен на учредительной конференции ВСЦ в Амстердаме под названием «Церковь и международный беспорядок».
Текст представлял собой политический манифест, верный доктрине Трумэна, основные положения которой он воспроизводил, и не стеснялся приписывать отвержение экуменизма Православными Церквями (на Московском съезде) «коммунистическим партиям», которые, как он сам подчеркивал, «правили семью странами, представляющими примерно четверть населения мира. Одни только эти партии сделали невозможным немедленное создание всемирной организации мира». Он также подчёркивал необходимость лучшей организации церквей в борьбе с коммунизмом, фактически поддерживая «христианский» антикоммунистический фронт, предложенный Трумэном.
Текст был основан на двух событиях: церковном и политическом. Политическое событие положило начало риторике холодной войны со стороны США и «крестовому походу», к которому президент Трумэн призывал западноевропейцев против Советского Союза.
Церковным событием стал Московский собор в июле 1948 года, всего за месяц до Учредительного конгресса Всемирной Православной Церкви в Амстердаме! Московский собор состоялся в рамках празднования 500-летия автокефалии.
По сути, это был Всеправославный Собор, в котором участвовали все Православные Церкви, либо в качестве представителей, либо в качестве главнокомандующих, за исключением трёх, напрямую зависевших от западного фактора: Константинопольского Патриархата во главе с крайним экуменистом митрополитом Фиатирским Германом, где Патриарх Максим V фактически находился в заложниках (его вынудили уйти в отставку в октябре 1948 года под предлогом… психопатии!), пока его не сменил архиепископ Американский Афинагор (прибывший в Турцию на личном самолёте президента Трумэна в январе 1949 года), Элладской Церкви (Греция переживала последние дни Гражданской войны и фактически находилась под американской военной оккупацией) и Кипрской Церкви (Кипр всё ещё находился под британской оккупацией).
Решения Москвы нанесли сокрушительный удар по предстоящему учредительному конгрессу Всемирного совета церквей (ВСЦ), проводимому под руководством США, поскольку они богословски торпедировали значение участия в нём трёх Православных Церквей. Эти решения включали беспрецедентное осуждение экуменизма как чуждого православному сознанию, согласно которому он составляет Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, что в сочетании с осуждением папства и отказом признать действительность англиканских рукоположений (признанных Константинополем, Румынией и Александрией), основанных, по сути, на богословии Седьмого Вселенского Собора относительно священства еретиков, стало окончательным богословским надгробием объединённого наступления на Православие и православные народы!
ВСЦ, лишённый существенного богословского признания со стороны православного мира, пала ещё ниже: на своей Второй Генеральной ассамблее в Эванстоне (США) в 1954 году, где, в разгар холодной войны, работу ассамблеи открыл не кто иной, как сам тогдашний президент США Д. Эйзенхауэр. В руководящем исследовании («Давайте будем Его свидетелями и проповедниками вместе») была продолжена линия, намеченная ещё Даллесом в 1948 году: базовым человеческим потребностям «свободы, равенства, стабильности и производительности» он противопоставляет «политику тоталитарного правления» коммунистических стран, проводя различие между «советским и несоветским миром», формируя подсознательный лозунг холодной войны об авторитарном и свободном мире… Политизация ВСЦ уже достигла своего пика…
В то же время ВСЦ учредил в 1950 году Экуменическую комиссию по европейскому сотрудничеству для разработки принципов сотрудничества европейских церквей в деле объединения Европы, как это было задумано так называемым «отцом Европейского Союза» Жаном Монне и Робером Шуманом (министром иностранных дел Франции), и воплощено в знаменитой Декларации Шумана 1950 года, которая привела к первому шагу в процессе объединения Европы – созданию Европейского сообщества. Европейского объединения угля и стали в 1951 году (известного как Парижский договор). Целью комиссии было создание атмосферы «христианской ответственности, которая должна привести к примирению европейских народов, что является единственным безопасным путем к европейскому сотрудничеству». Не будем забывать, что в Декларации Шумана говорилось: «Сближение европейских народов требует устранения извечного антагонизма между Францией и Германией».
Главное значение этого комитета заключается не только во времени его создания, но и в престиже его членов. Он объединил политиков из западноевропейских стран, которые присоединились к новому Европейскому сообществу лишь спустя десятилетия, таких как Великобритания, Скандинавские страны, Греция и Австрия, а некоторые из его членов впоследствии заняли высшие политические посты в послевоенной Европе.
Эпилог
Вопросы, которые мы не упомянули в тексте, многочисленны и важны. Например:
Какова была деятельность YMCA в дореволюционной России и ее влияние на экуменическую позицию Московского Патриархата?
В чем заключалась основная роль YMCA в создании и финансировании Православного богословского института Святого Сергия в межвоенный период, что стало катализатором доминирования экуменического богословия в православном мире посредством Института, а также сближения с новыми либеральными персоналистическими теологами Папства?
Каково значение скоординированных действий IMC и YMCA в вопросе «спасения» русских православных антисоветских «беженцев» (открыто сотрудничавших с нацистской Германией во время Второй мировой войны), конечным пунктом назначения которых были США, и их последующей инструментализации на антисоветском фронте, сформированном США?
Каковы были договоренности между США и Ватиканом до 1948 года, а также трансформация самого Ватикана, полностью соответствовавшая стремлению США к либерализации, кульминацией которой стал Второй Ватиканский собор (1963-1965 гг.); и многое другое.
Нерассмотренные вопросы, безусловно, укрепили бы тот образ, который мы хотели здесь подробно описать. А именно, что экуменизм с самого начала является чисто западным проектом, целью которого является распространение американской культуры в христианском мире. Западная Европа сама поддалась процессу американизации, превратившему её в зависимое пространство, лишенное собственной воли, и роль религии, особенно в первые двадцать лет после окончания Второй мировой войны, сыграла в этом решающую роль.
В заключение добавим несколько слов о важнейшем событии, которое, к сожалению, до сих пор остаётся необсуждаемым: Московском соборе и его решениях. Развёрнутая богословская аргументация (к счастью, она зафиксирована в протоколах для всех желающих) приводит к выводу, что представленное опровержение экуменизма и папизма основано на устоявшемся православном противоречивом богословии, на предпосылках православной веры, а не на политических расчётах или целях.
Доказательства того, что, за исключением трех Греческих Церквей, которые уже присоединились к экуменизму из-за давления Америки и Великобритании, все остальные подписали соглашение, и, конечно, кто может утверждать, что Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский Патриархаты были... «коммунистическими»?
Также вызывает беспокойство факт катастрофического вступления Восточноевропейских Православных Церквей в ВСЦ (в 1961 году), что привело к перевороту богословски верной позиции, выраженной Конгрессом 1948 года, предлагавшим – подчёркиваем ещё раз – конфессиональное Православие в противовес его секуляризированному, либеральному варианту. К сожалению, мы переживаем эти последствия сегодня, особенно в свете объявления о соглашении о совместном праздновании Пасхи православными и папистами, которое с самого начала было неизменной просьбой Экуменического движения... Соглашение, которое станет первым шагом – не к соединению а к самому объединению!
https://orthodoxostypos.gr/οικονομικη-ελιτ-και-οικουμενισμοσ/