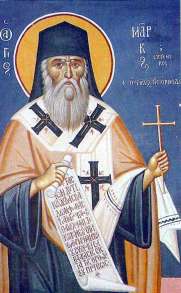ХРИСТИАНСКАЯ ИМПЕРИЯ:
ЗЕМНОЙ ОБРАЗ БОГА
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ:
ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Стивен Рансиман
Стивен Рансиман
Отрывок из работы: ВИЗАНТИЙСКАЯ ТЕОКРАТИЯ
Απόσπασμα από το έργο: Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ
Перевод Иосифа Роилидиса – Domos Publications

Было ли дано императору Константину видение, побудившее его защищать христианскую веру, – вопрос, по которому историки всегда будут расходиться во мнениях. Его биограф Евсевий сообщает, что много лет спустя император с некоторым сомнением рассказал ему, что, когда он собирался вторгнуться в Италию в 312 году н. э., ему внезапно явилось видение креста, сияющего в центре полуденного солнца, со словами: «Εν τούτω νίκα» у его основания. В ту же ночь ему во сне явился Христос и повелел поместить на щиты своих воинов знамя, то есть христианскую монограмму CHR. Рациональные историки игнорируют эту историю, считая её выдумкой самого Константина или, что более вероятно, Евсевия, которого они отвергают как недостоверного клеветника. Благочестивые христиане, однако, считают это событие чудом.
Другие считают, что Константин увидел редкое, но не уникальное природное явление, преувеличенное его воображением. Тот факт, что воины несли монограмму в битву у Мульвийского моста несколько недель спустя, подтверждается историком Лактанцием, который, однако, утверждает, что Константин был вдохновлён ею за день до битвы. Все эти рассказы не обязательно противоречат друг другу. Константин рассказал об этом Евсевию через двадцать один год после события, и тот, возможно, искренне забыл, сколько времени прошло между двумя видениями. Совершенно точно, что когда он вошел в Рим победителем в конце октября 312 года, его войска несли христианский символ в качестве знамени. И они несли этот же знамя в походах на Восток, сделавших Константина владыкой мира. Среди историков стало обычным представлять Константина хитрым и скептичным политиком, предвидевшим, что союз с христианами будет способствовать развитию Империи. Эта точка зрения, на мой взгляд, основана на устаревшем восприятии. Римская империя, безусловно, была охвачена проблемами – административными и военными, социальными и экономическими, – которые создавались и усиливались атмосферой отчаяния и страха. Вдумчивые императоры долго искали моральную силу, которая могла бы объединить и вдохновить их подданных. Преследования определенных групп, таких как христиане, были частью политики, направленной на моральное единство. Обращение императоров к культу, подобному культу Бессмертного Солнца, не означало, что они намеревались формализовать этот культ. Он просто стал бы основой для нового синкретизма. Но поддержка христиан, чья религия практически не допускала вмешательства, была революцией в политике. Это была также опасная игра. Подсчитано, что ко времени Миланского эдикта 313 года, когда христианская церковь обрела полную свободу вероисповедания и юридический статус, христиане составляли не более одной седьмой населения империи. Более того, в армии, главном источнике власти императора, было очень мало христиан.
Константин, возможно, считал, что его преданность Солнцу может сочетаться с христианством, поскольку христианские писатели так часто использовали солнце как символ небесного света Бога. Действительно, христиане были одной из наиболее организованных групп в империи, и среди их лидеров были многие из самых способных граждан. Но вскоре Константин обнаружил, даже не подозревая об этом, что в то время христиане были разделены расколом и ересью, что ослабляло их власть. Трудно поверить, что он рискнул бы отождествить себя с ними, если бы его обращение не было столь глубоким и искренним, хотя он ни в коем случае не утратил терпимости к язычникам. Его слова и действия показывают, что он очень серьёзно относился к христианству, находившемуся под его защитой. Если этим поступком ему удалось укрепить власть имперского абсолютизма, то это было обусловлено скорее обстоятельствами, желаниями и недостатками христиан, чем каким-либо дальновидным расчётом с его стороны. Пока христиане были меньшинством без законного признания, им было невозможно достичь богословского единообразия и церковного послушания.
В эпоху отсутствия чёткого официального учения они не могли ни контролировать ересь, ни предотвращать расколы, поскольку их администрация не имела законных полномочий. Но они были организованы настолько эффективно, насколько это было возможно. Каждая местная церковь находилась под полным управлением своего епископа, избираемого пожизненно клиром и представителями мирян епархии с согласия соседних епископов, один из которых рукополагал его для сохранения апостольской преемственности учеников Христа. Харизматическое равенство всех епископов в восточном христианстве никогда не оспаривалось. Но к концу III века, в период между гонениями Валериана и Диоклетиана, когда число христиан резко возросло, епископы приобрели привычку время от времени собираться на кафедре митрополии для обсуждения вопросов под председательством митрополита, который таким образом постепенно приобретал неопределённую административную и даже духовную власть над другими епископами. Для удобства церковная модель следовала географическому распределению светской власти.
Когда Диоклетиан объединил провинции в обширные административные единицы, епископы крупных городов, где находились префекты, приобрели особый авторитет по сравнению с митрополитами провинциальных центров. К началу IV века три епископа уже предшествовали остальным. Они считали, что епископ Рима обладает определенным первенством над всеми остальными епископами, поскольку Рим был столицей империи, городом, где свидетельствовали апостолы Пётр и Павел, и поскольку, согласно традиции, первый епископ Рима был назначен апостолом Петром, первым из апостолов. Епископ Антиохии считался главой всех епископов в азиатских провинциях империи; и его собственная кафедра также была основана апостолом Петром. Епископ Александрии, хотя его кафедра была основана только святым Марком, а её территория ограничивалась Египтом, имел наибольшее влияние среди трёх. Александрия была духовным центром империи. Большая часть населения Египта была почти христианской и, вероятно, превосходила христианское население Европы или Азии; и епископ, следуя примеру наместника Египта, который до реформ Диоклетиана обладал властью регента, единолично взял на себя право рукополагать всех епископов в своей провинции. Вскоре за ними последовал епископ Карфагена, имевший в своих африканских провинциях большое число христиан, но ведший безуспешную борьбу за сохранение независимости от Рима.
Каждый из этих великих иерархов старался поддерживать дисциплину и единство веры в своём регионе. И насколько позволяло их взаимное соперничество, они контактировали друг с другом по вопросам политики и доктрины, что было не так-то просто, поскольку у них не было другого оружия, кроме отлучения от церкви, а многие доктрины всё ещё были неопределёнными. Два величайших отца христианской церкви доконстантиновского периода, Ориген Александрийский на Востоке и Тертуллиан Карфагенский на Западе, отклонились от общепринятого Православия – и, хотя они не были канонизированы, тем не менее, оказали глубокое влияние на богословие. Гностические группы действительно были изгнаны из Церкви, хотя это было обусловлено главным образом их собственным желанием не оставаться в ней. Другие разногласия и споры не могли быть разрешены так легко. Константин предоставил христианам относительно небольшую свободу в богослужении, прежде чем сам оказался вовлечён в их споры. В Египте и Африке бушевали споры, начинавшиеся с той же проблемы. Во время гонений некоторые христиане, священники и миряне, поддались языческим принципам. Должна ли Церковь вновь принять их? Уже после гонений Деция римский священник Новациан возглавил группу, которая отказывалась вступать в общение с вернувшимися христианами, несмотря на их покаяние; и новациане никуда не исчезли. Во время гонений Диоклетиана между двумя египетскими епископами, Петром Александрийским и Мелитием Ликопольским, разгорелся спор из-за того, что Петр предлагал смягчить наказание для верующих, приносивших жертвы на языческих алтарях, которое становилось всё более суровым в зависимости от того, угрожали ли им смертью, пытками или простым тюремным заключением. Когда Петр, освободившись, приступил к реализации своей программы, Мелитий и его друзья не стали сотрудничать. А когда Петр был снова арестован и принял мученическую смерть в 312 году, мелитиане не признали его преемника Александра. В то же время в Африке языческие власти настаивали на том, чтобы христиане передали свои священные книги. Несколько епископов согласились, чтобы спасти свои общины. Однако группа христиан-экстремистов разорвала с ними всякое общение. Когда в 311 году Цецилиан был избран новым епископом Карфагена, эти экстремисты, финансируемые богатой женщиной по имени Луцилла, которая лично не любила Цецилиана, оспорили его избрание, поскольку он был рукоположен Феликсом из Аптунги, одним из епископов-традиционалистов, то есть тех, кто передал книги. Вместо него они избрали некоего Майорина, который умер несколько месяцев спустя, и его преемником стал Донат, от имени которого и получила свое название соответствующая секта. Мелитиане были ограничены Египтом, и прошло несколько лет, прежде чем император узнал об их существовании. Он пробыл в Риме всего несколько месяцев, прежде чем узнал о донатистском расколе.
Мильтиад, епископ Рима, родившийся в Африке, был глубоко огорчен расколом, как и святой епископ Кордовы, которого Константин считал своим духовным наставником. Святой рекомендовал императору поддержать Цецилиана. Именно тогда донатисты обратились к императору – жест весьма знаменательный, поскольку, судя по всему, они ещё не осознавали его христианства. Таким образом, Константин оказался приглашённым в качестве арбитра во внутреннем церковном споре. Он с готовностью откликнулся на приглашение. В письме к Мильтиаду, в котором он писал, что невыносимо видеть население провинции, вверенной его попечению божественным провидением, разделённым на два лагеря, он просил епископа Рима возглавить комиссию из трёх епископов Галлии (донатисты требовали галльских епископов как более беспристрастных), которая должна была допросить по десять африканских епископов из каждой части. Эта комиссия имитировала схожий римский политический метод рассмотрения подобных споров. Мильтиад искусно преобразовал её в церковный Собор, добавив четырнадцать италийских епископов для третейского разбирательства. Константин это заметил. Когда донатисты отказались принять решения этого Собора, он созвал в 314 году в Арелате (Ариес) Собор всех епископов Запада для обсуждения этого дела.
Что бы ни думал Мильтиад, именно Константин созвал Арелатский собор и считал это своим долгом. Хотя он терпел языческие культы, он был глубоко огорчён расколом в Церкви и чувствовал себя лично ответственным за восстановление единства. В своём письме префекту Африки, приказывая ему отправить епископов Африки в Арелату, он писал: «Я считаю совершенно несправедливым, чтобы от меня скрывали подобные споры, из-за которых Бог может обратиться не только против рода человеческого, но и против меня, которому Своим Божественным решением Он доверил управление всеми человеческими делами». Арелатский собор отверг позицию донатистов, а они, в свою очередь, отказались принять его решения. Именно об этом Константин написал собравшимся епископам перед их отъездом из Арелатского собора, чтобы выразить свой гнев и повторить, что считает своим императорским долгом позаботиться о наказании раскольников. Наконец, в 316 году решение суда оправдало Цецилиана.
У донатистов существовала проблема раскола, но никто не обратился к основному богословскому вопросу, который они поставили: аннулируется ли благодать, дарованная епископу при рукоположении, в случае совершения смертного греха? Однако вскоре Константин столкнулся с проблемой, затрагивавшей основы христианского богословия. В конце 324 года, будучи христианским борцом, он победил своего соправителя Лициния и остался единственным абсолютным монархом империи. Но, прибыв на Восток и обосновавшись в Никомедии, тогдашней административной столице Востока, он узнал, что Восточная Церковь разделена по догматическому вопросу. Здесь не место для подробного анализа арианства. Но следует напомнить некоторые основные факты. Арий был священником в Александрии, обладавшим огромным проповедническим талантом, и около 319 года начал учить, что Христос не вечен, но был сотворён Богом как орудие творения и искупления мира. Он — Сын Божий, но не той же природы, что и Бог-Отец. Это учение не было совершенно новым. Частично основанное на неоплатонической идее единства, частично – на иудейской традиции, и в более мягкой форме субординации (Sul)ordinatio), согласно которой Сын занимает более низкое положение, чем Отец, оно смутно поддерживалось такими отцами Церкви, как Иустин, Ириней и Климент Александрийский, а также, очевидно, Оригеном. По-видимому, Лукиан Антиохийский, святой мученик и учитель Ария, также открыто проповедовал его. Арий просто придал учению более точную и понятную форму. За это он был отлучен от церкви собором египетских епископов, созванным епископом Александрийским Александром. Однако Арий приобрёл в Египте множество последователей, особенно среди женщин. Его обычно сопровождали, как говорят, 700 святых и радостных дев. Он нашёл сторонников и в Азии. По его просьбе Евсевий, епископ Никомидийский, который был его однокурсником во времена Лукиана, созвал Собор епископов провинции Вифиния, который поддержал учение Ария. Затем Арий отправился в Палестину, где, по-видимому, к нему сочувствовал Евсевий, епископ Кесарии. Собор епископов Палестины вновь подтвердил его учение, но на этот раз призвал его к примирению с Александром Александрийским. Александр, будучи миролюбивым человеком, надеялся, что Арий успокоится и прекратит спор. Но Арий, теперь подкреплённый огромной властью, не мог молчать. Последовала война памфлетов, всё более резких по тону, с взаимными обвинениями в ереси.
Константин был встревожен, увидев, что Восток так же яростно разделён, как и Африка, по вопросу, который казался столь незначительным. Он написал письмо, которое повелел святому Кордуису доставить в Египет и показать Александру и Арию. Подражайте философам, писал он, которые, даже расходясь во мнениях по мелочам, сотрудничают ради сохранения единства философского учения. Он сам хотел бы посетить Египет, но не смог из-за такого спора. Поэтому вы открыли мне, в вашем общем понимании жизни, путь, который вы преградили своими ссорами друг с другом.
Осия ничего не мог поделать ни с Александром, ни с Арием. Ему также сообщили о мелитианском расколе. Он посоветовал императору действовать. Тем временем ярый противник арианства Маркелл, епископ Анкирский, решил созвать поместный собор епископов для осуждения Ария, в то же время епископы Сирии собрались в Антиохии для избрания нового епископа. И они не только избрали другого ярого противника арианства, Евстафия, но и осудили трёх епископов, включая Евсевия Кесарийского, за их арианские тенденции. Константин не удовлетворился этим, но отстранил Маркелла, взяв Анкирский собор под свою защиту, укрепив его и перенеся в Никею, куда созвал всех епископов христианского мира. Никейский собор, Первый Вселенский собор, был важнейшим событием в истории христианства. Но на самом деле мы знаем о нём очень мало. На нём, вероятно, присутствовало около пятисот епископов, почти все с грекоязычного Востока, и около ста из Малой Азии. Запад не проявил большого интереса. Епископ Рима Сильвестр, сославшись на болезнь, прислал двух диаконов, чтобы представлять его. Из Италии прибыл только один епископ, один из Галлии и один из Иллирика. Присутствовал Цецилиан Карфагенский, но ни один из Британии или Испании, кроме святого Кордуиса, который присутствовал в качестве посланника императора. Присутствовали пять епископов из провинций за пределами восточных границ империи. Собор официально открылся 20 мая 325 года.
Когда все епископы собрались, вошёл император, одетый в пурпурную императорскую мантию, и скромно отказался сесть, пока епископы не дадут ему разрешения. После официального приветствия епископа, сидевшего справа от него, вероятно, Евстафия Антиохийского (хотя его имя не указано), он произнёс краткую речь на латыни с параллельным переводом на греческий, в которой подверг критике разногласия внутри Церкви и призвал епископов снискать милость Божию и благодарность императора, отказавшись от разногласий. Неясно, как часто он появлялся на заседаниях и какую ответственность возлагал на святого. Порядок заседаний также неясен. Нам достоверно известно, что Евсевий Кесарийский, по просьбе императора, считавшего его более умеренным, предложил Синоду сохранить традиционный Символ веры Кесарийской Церкви. Его терминология, обозначавшая Христа, была совершенно ортодоксальной и не содержала ничего, что можно было бы счесть противоречащим арианам. Епископы могли бы её принять, но противники ариан настаивали на добавлении к ней более сильного термина. По мере того, как споры становились всё более жаркими, вмешался Константин и предложил ввести слово «homoousios», то есть единосущный, для описания отношений Сына и Отца. Это слово не было новым в богословии. Оно было осуждено Восточным собором в 268 году. Но Рим считал его ортодоксальным; и именно святой, будучи с Запада и не зная истории этого явления на Востоке, рекомендовал его императору. Обеим партиям на Востоке оно не понравилось, но они боялись присутствия императора, хотя антиариане смогли добавить две-три пояснительные фразы. Когда состоялось голосование по этой формулировке, только два епископа отказались согласиться. Затем они и Арий были отлучены от церкви. В то же время мелитианский раскол завершился компромиссом. Мелитианские епископы теперь должны были считаться канонически рукоположенными, если подчинялись авторитету Александра Александрийского. Они считали, что мелитяне настроены против ариан и поэтому готовы к примирению.
Константин был доволен итогами Собора. Милостью Божией, писал он Александрийской Церкви, я вновь созвал в Никею большинство епископов, с которыми я, как и некоторые из вас, весьма рад вашему примирению, а он – познанию истины. Это краткое заявление, однако, не оправдало его полного удовлетворения. Арий не молчал; и хотя Александр Александрийский был готов к компромиссу, его преемник, Афанасий, придерживался более строгих взглядов. Его непреклонность вскоре привела его к конфликту с императором, который теперь склонялся к более мягкому богословию Покорности, вероятно, вдохновленному Евсевием Кесарийским, который, по-видимому, стал преемником престарелого святого в качестве главного духовного наставника. Мать Константина, Елена, питала большую преданность и уважение к Лукиану Антиохийскому, учителю Ария, которому она посвятила большую церковь в городе Еленополе, основанном ею самой. По этой причине Евстафий Антиохийский невзлюбил её и распространял непристойные слухи о её прежней жизни. Однако его быстро лишили сана под предлогом безнравственности. Другой ярый антиарианин, Маркелл Анкирский, был низложен за то, что проявил неразумие в споре с Евсевием Никомидийским и Евсевием Кесарийским, которые оба были людьми императора. Даже Афанасий в конце концов был лишён кафедры и отправлен во временное изгнание.
Константин был полон решимости восстановить единство Церкви, которая оставалась по-прежнему разобщённой. Неудивительно, что император становился всё более гневным и деспотичным. В циркулярном письме епископам, готовясь к созыву Собора в Тире в 335 году, он пишет: «Ибо если те, кто, подобно мне, были призваны на наше другое собрание и теперь искушаются быть отвергнутыми и не желают присутствовать, пусть будет послан от нас тот, кто по царскому указу будет учить истине вопреки императору, как ему и подобает». Мы также видим, как он писал еретикам, говоря, что их дурное поведение оправдывает императорское вмешательство и наказание. Он называл себя епископом тех, кто вне Церкви, тем самым, по-видимому, подразумевая, что он несёт ответственность за души язычников, к которым он был терпим, но не за еретиков. И, как показывает письмо персидскому царю, он также чувствовал ответственность за христиан, живущих за пределами империи. Но в то же время он был очень скромен. Он знал, что высказывать своё мнение по богословским и церковным проблемам – долг епископов, а не его самого, хотя он мог, как в Никее, подсказать, а точнее, шантажировать, решение. Вероятно, именно его нерешительность заставила его отложить крещение до незадолго до смерти, когда его крестил полуарианин Евсевий Никомидийский.
Но он всерьёз верил, что его священный долг как императора – видеть Церковь, в которую он был перенесён, единой и сильной. И это убеждение указывало ему путь в будущее. Как могла Церковь принять своего нового господина? До тех пор она оставалась автономной. Он всегда старался исполнять повеление Христа, то есть воздавать кесарю кесарево. Он исполнил повеление апостола Павла воздавать честь царю. Святой Афинагор Афинянин без всякого труда льстил Марку Аврелию, называя его превосходнейшим из людей не только за его силу и мудрость, но и за его верные взгляды на все науки. Тертуллиан подчёркивал преданность христиан императору. «Мы всегда молимся за него, – говорит он. – Мы должны почитать его как избранника Божия. Могу даже сказать, что он наш больше, чем язычников, ибо он поставлен Богом». Христиане стремились быть добрыми гражданами, послушными властям. Если бы император стал христианином, то это, несомненно, положило бы конец всякой напряжённости между императорским правительством и Церковью.
Но давала ли победа Креста императору какие-либо права на религиозную жизнь христиан? Идею царя-священника следует искать в Ветхом Завете, в теневой фигуре Мелхиседека, а позднее – Давида. Более того, именно Моисей возглавлял народ и лично получил Заповеди Божии, хотя официальным первосвященником был Аарон. Идея правителя, находящегося в особых отношениях с Богом, была известна иудеям, а следовательно, и ранним христианам. Но именно в Персии зародилась идея божественного монарха. Там, уже во времена до Заратустры, царь был обладателем хварены – благоговейной славы, дарованной ему Богом света. Её символом был нимб, материально выражавшийся в сияющей диадеме и блестящих одеждах царя. Ещё раньше египтяне подчёркивали божественное происхождение монархии. Но там, по-видимому, власть священства сохраняла монархические амбиции по контролю над ситуацией. Многие персидские и египетские идеи проникли в греческую философию. Мы видим, как Аристотель утверждает, что идеальный царь должен быть земным образом Зевса, а Исократ находит идеального царя в земном образе Геракла. Однако философия царской власти развивалась главным образом в эллинистических царствах, где монархи, следуя примеру персов, считали себя божествами. В VI веке н. э. некто Иоанн Стобеус опубликовал антологию текстов о царской власти, которую он наивно приписывает некоторым древним философам, но на самом деле они, по-видимому, относятся ко II и III векам н. э. В них Архит заявляет, что царь – это живой закон. Сфенонид утверждает, что мудрый царь – подражатель и представитель Бога. Диотоген утверждает, что как Бог пребывает во вселенной, так и царь пребывает в государстве, и добавляет, что государство – это подражание порядку и гармонии вселенной, а царь преображается в бога среди людей. Ещё более показательно, что Экфант говорит, что слово Божие, сеющее семена порядка и являющееся человеку, чтобы восстановить то, что было утрачено грехом, воплощается в царе. Чуть позже Плутарх развил эту мысль. Он говорит, что Бог поместил на небесах солнце и луну как Свой образ, а на земле – подобный сияющий образ – царя, чей руководящий принцип – разум.
Константину посчастливилось иметь своим биографом и панегириком Евсевия Кесарийского, учёного, который, несомненно, знал эти тексты и использовал их в качестве основы своей философии для христианской империи. Сначала ему нужно было оправдать Римскую империю. Филон показал, что Рим принёс миру мир и единство, и за это был благосклонен к Богу. Ориген добавил христианский аргумент, показывающий, что Бог решил послать Своего Сына в мир именно тогда, когда Рим принёс это единство и мир, чтобы Евангелие могло беспрепятственно распространяться среди всех людей. По словам Евсевия, триумф истории наступил, когда римский император принял христианское послание. Теперь он был мудрым царём, подражающим Богу, правящим царством, которое теперь могло стать подражанием Небесному. Евсевий просто принял учение Диогена, Экфанта и Плутарха, с соответствующими изменениями. Царь – не Бог среди людей, а Представитель Бога. Он не есть само воплощённое Слово, но находится в особых отношениях со Словом. Он был особым образом воздвигнут Богом и постоянно вдохновляется им, он – друг Бога, толкователь Слова Божьего. Его взор устремлён вверх, чтобы воспринимать Божьи послания. Он должен быть окружён уважением и славой, подобающими земному образу Бога. И, видя вверх, согласно архетипической идее, он правит теми, кто внизу, правя, подражая монарху династии.\
Источник:
Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
© перевод выполнен интернет-содружеством "Православный Апологет"2025г.
Копирование частичное или полное текста статьи дозвляется при обязательной ссылке на интернет-ресурс Православный Апологет.