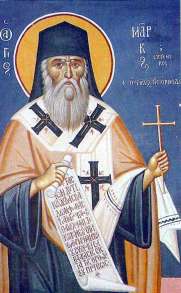Христологический вопрос. По поводу проекта соединения Православной Церкви с Дохалкидонскими церквами: нерешенные богословские и экклезиологические проблемы
От редакции: Статья известного французского православного богослова Ж.-К. Ларше (MesO. 134. 2000. II. P. 3–103), переведенная на ряд языков (серб., итал., араб. и греч.), посвящена диалогу с дохалкидонскими Церквами и выработанным в его ходе документам, последним из которых является «Второе общее заявление и предложения Церквам» (Шамбези, Швейцария, 1990 г.). Следует напомнить, что в отношении этого документа, критике которого посвящена публикуемая ниже в порядке обсуждения статья, действует решение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1997 г. (подтвержденное Юбилейным Архиерейским Собором 2000 г.). В нем отмечено, что «Заявление» «не должно рассматриваться как окончательный документ, достаточный для восстановления полного общения между Православной Церковью и Древними Восточными Церквами, так как содержит неясности в отдельных христологических формулировках».
В дополнение к Редакции Богословских трудов наша Редакция Православного Апологета считает важным сделать более конкретное замечание в отношении хода этого диалога а Антихалкидонскими церквами. Этот диалог провдится в духе догматического минимализма и поиска выхода за пределы христологии 4 Вселенского собора, которая, по справедливому утверждению В. В. Болотова в точных догматических поределениях своего Ороса с недвусмысленной ясностью оградило и отделило Православие от нестроианства и от монофизитства. Любой поиск обхода Ороса 4 Вселенского собора неизбежно приведет к таким компромиссам, котлорые неизбежно приведут к ереси. Антихалктдониты упорно заявляют о том, что их вера идентична Православной. Однако идендентичность веры всегда предполагает предельно ясные догматические формулирувки, которые не допускают двусмысленности, недоговоренности. А именно это и присутствует в христологии главного идеолога Антихалкидонитов - Сервира Антиохийского. Любая догматическая несность, неточость формулировок - не является чем-то терпимым и в какой-то мере допустимым для Православия.
Содержание
ВведениеА. Богословские и экклезиологические достижения диалогаВ. Нерешенные богословские проблемыI. Отказ от исчисления природ ХристаII. Утверждение, что природы Христовы различаются «лишь умозрительно»III. Двусмысленность формулы «единая природа Бога Слова воплощенная»IV. Неясность некоторых выраженийV. Употребление двусмысленности языка святого Кирилла в виде ширмыVI. Отсутствие взаимности в признании образа выражения веры той и другой стороныVII. Переоценка исторических факторовVIII. Статус Севира Антиохийского1. Осуждение Севира на Соборах2. Осуждение Севира Антиохийского в Синодике в Неделю Торжества Православия3. Осуждение Севира в богослужебных текстах4. Осуждение Севира Антиохийского Отцами Церквиa. Значимость и значение осуждения, произнесенного Святыми Отцамиb. Осуждение Севира Антиохийского в житиях святыхс. Критика севирианской христологии и «умеренного» монофизитства у святого Иустинианаd. Критика севирианского богословия у святого Максима ИсповедникаПрирод две, а не однаУмаление или отрицание реальности человечества во ХристеПравославное значение выражения святого Кирилла: «единая природа Бога Слова воплощенная»Христос – не сложная природаНепоследовательности, связанные с уравнением «природы» и «ипостаси» у Севирае. Критика севирианского богословия у святого Иоанна Дамаскинаf. Размышления о святоотеческой критике севирианской христологииIX. Статус ДиоскораX. Статус Халкидонского СобораXI. Релятивизация Вселенских СоборовXII. Вопрос о снятии анафемXIII. Сомнение в единстве и единственности ЦерквиЗаключение
Введение
Диалог между Православной Церковью и Восточными Церквами, называемыми «дохалкидонскими»1, получил значительное развитие за последние десятилетия. После «неофициальной консультации» (Орхус, 1964)2, которая привела к углубленному изложению взаимных богословских позиций и точек их соприкосновения3, прошли официальные встречи в Бристоле (1967)4, Женеве (1970)5, Адис-Абеба (1971)6, Баламанде (1972), Пендели (1978), Шамбези (1979, 1985, 1989, 1990, 1993). После каждой из них публиковалось коммюнике7. Заключительное коммюнике встречи 1989 года (Второе пленарное заседание Смешанной комиссии по диалогу) обычно рассматривается как «Первое согласованное заявление»8. В ходе встречи 1990 года, во «Втором согласованном заявлении», были повторены и уточнены формулировки «Первого заявления»: утверждено наличие общей веры, определены необходимые практические шаги для установления полноты общения между Церквами9. На встрече 1993 года были выработаны «Предложения по снятию анафем»10.
По мнению некоторых, объединение не только уже назрело, но – на деле – уже осуществлено. Роль предтечи сыграл здесь Антиохийский Патриархат: в 1991 году в окружном послании членам Священного Синода своей Церкви патриарх Игнатий IV предписал ряд конкретных мер по объединению с нехалкидонской (монофизитской) Церковью Сирии. Речь шла, к примеру, о «включении Отцов обеих Церквей в учебные курсы и в преподавание богословия» (§ 2), о «прекращении принятия членов11 одной Церкви в общение другой, по какой бы то ни было причине» (§ 3), об участии и сослужении епископов и священников обеих Церквей в общих богослужениях – причем председательствовать должен был старейший по хиротонии (§ 6, 10, 11, 14), о преподании Святых Таинств (в том числе Крещения, Миропомазания и Причащения) священником той или иной Церкви безразлично мирянам той и другой Церкви (§ 9), о рукоположении духовенства одной Церкви в присутствии духовенства другой Церкви (§ 12). Спустя 10 лет – 5 апреля 2001 года – Греко-православный Александрийский Патриархат заключил с Коптской Церковью «Пастырское соглашение», провозглашающее взаимное признание совершенного в той или другой Церкви таинства Брака. В обоснование этого решения представители Церквей ссылались на «соглашения, заключенные в 1989 году в Египте и в 1990 году в Женеве, относительно христологических вопросов, восстановления общения между двумя великими семьями и в конечном итоге взаимного признания таинства Крещения [совершаемого в той и другой Церквах]». Наконец, на Западе во многих православных храмах члены нехалкидонских Церквей свободно получают доступ ко Святой Чаше, а над их детьми совершается таинство Крещения, причем не предполагается, что они будут воспитаны в Православной вере.
На Западе униональный проект получил и продолжает получать значительную поддержку со стороны некоторого числа видных представителей Православия и православных СМИ. Между прочим, как ни удивительно, по этому вопросу нашли общий язык представители как ультраконсервативных, так и модернистских течений, которые расходятся почти по всем другим вопросам12.
Но вместе с тем униональный проект вызвал немало настороженных реакций в традиционно православных странах (в частности, в Греции, в России, в Сербии, на Кипре)13. Хотя эти реакции не всегда были ясно выражены, они, однако, проявили себя в полной инертности по отношению к «Согласованным заявлениям» и принятым вслед за ними практическим решениям. Эта инертность была воспринята многими как молчаливое несогласие. Да и сегодня многие, в том числе и в среде сторонников объединения, считают, что оно не только «не состоится», но «уже похоронено». Из всей богословской и экклезиологической критики, адресованной униональному проекту, одной из важнейших и наиболее авторизованных следует считать ту, которая была в несколько этапов развита Священным братством Святой Горы Афон14. Поддерживающие униональный проект западные православные СМИ применили к этой критике политику умалчивания. Тем не менее она обратила на себя внимание тех, кто ясно осознает тот исторический и неоспоримый факт, что во многих кризисах, с которыми столкнулась Церковь, Священное братство Святой Горы Афон выступило как догматическая совесть Церкви, немало поспособствовав сохранению чистоты вероучения. Критика святогорцев, несмотря на то, что она, может быть, не углубляет затрагиваемые вопросы настолько, насколько хотелось бы, выявила ряд проблемных аспектов унионального проекта в его нынешнем состоянии. Был подчеркнут ряд пунктов, вызывающих тягостное недоумение среди православных и являющихся значительным препятствием на пути к осуществлению этого проекта.
Широкую поддержку, которую униональный проект получили на Западе среди православных различных толков, можно объяснить очевидной недооценкой его догматического значения, а также слабым осознанием тех проблем, которые он – в его нынешнем состоянии – может создать в плане догматики и экклезиологии15. Сами эти факторы можно объяснить следующим:
– во-первых, общим упадком догматического сознания – упадком, характерным для нашего времени16: его можно увидеть и в отношении к другим догматическим вопросам (в частности, в области триадологии);
– во-вторых, некоторой тенденцией к «глобализации», в рамках которой объединяются представители не только разных христианских конфессий, но и разных религий, сводя при этом содержание веры ко все большему минимуму17;
– в-третьих, тем, что здесь идет речь о чрезвычайно сложных и тонких богословских вопросах, нюансы которых недоступны не только для тех, кто, будучи лишен необходимой исторической и богословской культуры, пишет на эту тему в некоторых православных СМИ, но и для многих весьма компетентных в других областях историков и богословов18.
Эта недооценка богословского и экклезиологического значения поставленных вопросов проявилась даже в работе диалоговой комиссии, готовящей униональный проект, вплоть до того, что наблюдатели ставили вопрос о реальной компетенции ее членов19. Действительно, читая итоговые документы комиссии, можно заметить, что их составителям совершенно неизвестна (либо они здесь не выразили свои знания) борьба Отцов Церкви против нехалкидонского богословия. В частности, здесь полностью игнорируются труды, написанные по этому поводу императором Иустинианом, святым Максимом Исповедником, святым Иоанном Дамаскиным (который написал несколько сочинений против антихалкидонитов), святым Фотием (который составил несколько посланий против христологического и экклезиологического учения армян) и многими другими Отцами и богословами Православной Церкви20. Зато «эксперты» комиссии ссылаются почти исключительно (явно или подспудно) на работы католического историка Ж. Лебона, который пытался доказать православие нехалкидонской христологии, утверждая, что она соответствует мысли Кирилла. При этом эти «эксперты» игнорируют либо скрывают тот факт, что выводы Лебона противоречат выводам других историков21.
Поражает и то, что, хотя в прошлом публиковались подробные протоколы работ диалоговой комиссии22, в последние годы такая публикация была приостановлена, так что народ Божий пребывает в неведении и в сомнении относительно реалий и природы богословских размышлений, положенных в обоснование некоторых формул «Согласованных заявлений»23. Создается впечатление, что собственно богословское обсуждение ограничилось собеседованиями в Орхусе (1964 года), в дальнейшем же рассматривались исключительно экклезиологические вопросы.
В ответ на вызванную «Заявлениями» критику митрополит Дамаскин – один из основных поборников унионального процесса – выдвинул дополнительные комментарии и некоторые богословские и экклезиологические разъяснения24.
Эти разъяснения ясно характеризуют теневую сторону «Согласованных заявлений». Они были составлены согласно принципам, испытанным в течение многих лет экуменических отношений и достигшим совершенства: в самых общих и кратких словах излагаются точки соприкосновения, точки же расхождения полностью замалчиваются. По этой причине следует читать «Согласованные заявления» не столько сами по себе, сколько в свете сделанных на них комментариев.
Цель изложенных ниже замечаний состоит в том, чтобы выявить двусмысленности, содержащиеся в «Согласованных заявлениях» и униональном проекте в его нынешнем состоянии, а также их противоречия, лакуны и недостатки25. Цель наших размышлений конструктивна: она состоит в том, чтобы дать возможность продолжить и углубить диалог26, который ни в коем случае нельзя считать завершенным. Мы надеемся, что наш труд позволит уточнить некоторые пункты, которые в своем настоящем изложении неприемлемы и влекут за собой тяжелые подозрения относительно природы совместно исповедуемой веры, что может окончательно скомпрометировать созданную на такой основе унию27. За последние годы в диалоге произошли значительные сдвиги. Церквам, находящимся по ту и другую сторону и движимым искренним стремлением к единству, это открывает беспрецедентную в истории возможность объединения. Не следует упускать, будучи столь близкими к цели, уникальный исторический шанс – возможность, предоставленную нам Промыслом.
А. Богословские и экклезиологические достижения диалога
Одним из значительных результатов встреч между Православной и нехалкидонскими Церквами является то, что эти Церкви научились диалогу, осознали свои общие древние корни и сохранившиеся точки соприкосновения (как в области литургики и духовности, так и в области богословия), научились уважать и любить друг друга. Ведь в течение многих веков они боролись друг с другом – вплоть до того, что в некоторые исторические периоды их члены шли истреблять друг друга.
В процессе диалога и в свете исторической перспективы было выявлено то, чтó в разделении между православными и нехалкидонитами и в их взаимном противостоянии должно быть приписано политическим, общественным и психологическим факторам.
Яснее было понято то значение, которое имели во взаимном богословском непонимании и его упрочнении языковые различия. Таким образом, некоторые недоразумения были разрешены.
Было осознано, что те нехалкидонские Церкви, с которыми ведется диалог, не заслуживают именования «монофизитские» в том значении, в каком оно применяется к учению Евтихия: это учение было подвергнуто жесткой и ясной критике Севиром Антиохийским – основным богословом нехалкидонских Церквей28.
Кроме того, представляется, что нехалкидонские Церкви сделали шаг в сторону сближения с Православной Церковью, упразднив то, что до сих пор являлось существенным препятствием к объединению. Судя по всему, были отвергнуты моноэнергизм и монофелитство, к которым нехалкидонские Церкви присоединились в VII веке: было принято, что нетварная божественная природа исповедуется «со всеми [Ее] свойствами и действиями […], включая природную волю и природную энергию». Равным образом было принято, что человеческая природа исповедуется «со всеми ее свойствами и действиями, включая природную волю и природную энергию»29.
Наблюдатели отмечают еще несколько положительных моментов. Например, для определения Христа стали употреблять скорее понятие «сложной ипостаси» (ὑπόστασις σύνθετος), чем «сложной природы»30 (хотя мы не можем быть уверены в том, что оно здесь понимается в своем неохалкидонском значении31; более того, для нехалкидонитов ипостась и природа остаются синонимами – сам Севир говорил о «сложной природе и ипостаси» [μία φύσις καὶ ὑπόστασις σύνθεθος]32). Утверждается двойное единосущие Логоса33; исповедуется, что Христос не только в совершенстве Бог, но и в совершенстве человек34, или совершенный человек35. Повторяются все четыре причастия Халкидонского апофатического определения тайны ипостасного единения: «неслиянно (ἀσυγχύτως), неизменно (ἀτρέπτως), нераздельно (ἀχωρίστως), неразлучно (ἀδιαιρέτως)»36.
Однако мы увидим, что по некоторым из этих пунктов во многом имеется лишь внешний прогресс, притом что иные богословские и экклезиологические проблемы остаются нерешенными.
В. Нерешенные богословские проблемы
I. Отказ от исчисления природ Христа
Нигде, ни в первом, ни во втором «Заявлении», не утверждается, что у Христа – две природы, божественная и человеческая. В тех различных местах, где утверждение о двух природах могло бы или даже должно было бы присутствовать, эта формулировка обходится. Таким образом, здесь проводится (и принимается православными представителями, подписавшими «Заявления») один из основных принципов нехалкидонского богословия: отказ от исчисления природ37. Дело в том, что нехалкидонские богословы полагают, что числу свойственно разделять и разлучать природы, что, таким образом, наносит ущерб единству Христа. Отказ от исчисления природ мы находим уже у Диоскора. У Севира Антиохийского это становится навязчивой идеей, доводившей его до «чистки христологического языка» предшествующих ему Отцов, в том числе и до игнорирования всего того, что у Кирилла или Афанасия соответствовало утверждению двух природ или приближалось к этому утверждению38. «Для Севира решение проблемы было ясным: единственным средством против Халкидона было полное исключение из богословской терминологии языка двух природ, во всех его вариантах»39. Подписавшие «Заявления» вместо того, чтобы проявить верность Халкидонскому Собору и предшествующим ему Отцам, в совершенстве следуют упомянутому принципу и методу Севира Антиохийского. Отказываясь от языка двух природ, униональный проект повторяет ошибку многих древних униональных соглашений с монофизитами (к примеру, знаменитого Энотикона Зенона, 482 г.). Все эти соглашения были затем отвергнуты православным сознанием и потерпели крах в последовавшие за их провозглашением месяцы или годы.
Отказ Севира и других нехалкидонских богословов от употребления языка двух природ был подвергнут строгой критике со стороны православных богословов, в частности Иустиниана40, святого Максима Исповедника41, святого Иоанна Дамаскина42. Они видели в этом отказе один из признаков еретичности учения Севира. Они подчеркивали, что число позволяет различить, но не разделяет и не разлучает. А вот отказ от исчисления природ вносит неясность и оправдывает применение прилагательного «монофизитское» к нехалкидонскому богословию (хотя здесь речь идет о монофизитстве, отличном от евтихианского, в котором отрицается двойственность природ потому, что утверждается поглощение человеческой природы божественной).
Утверждение о наличии двух природ все же появляется во «Втором заявлении», но в таком контексте, который меняет и принижает его первичное значение – то, которое мы восприняли от православного Предания (см. ниже).
II. Утверждение, что природы Христовы различаются «лишь умозрительно»
Одним из наиболее спорных пунктов обоих «Заявлений» является утверждение о том, что природы Христа различаются «лишь умозрительно (τῇ θεωρίᾳ μόνῃ)». В «Первом согласованном заявлении» мы читаем: «Когда мы говорим об одной сложной ипостаси Господа нашего Иисуса Христа […], [мы имеем в виду], что единая вечная Ипостась Второго Лица Святой Троицы восприняла нашу тварную человеческую природу, в этом акте соединяя ее со Своей собственной нетварной божественной природой для создания нераздельно и неслиянно соединенного реального (πραγματική) Богочеловеческого существа (ὕπαρξις), в котором природы различаются (διακρίνονται) друг от друга лишь в созерцании (τῇ θεωρίᾳ μόνῃ)»43. «Второе заявление» дважды повторяет это утверждение. В нем прежде всего подчеркивается, что «обе семьи согласны, что обе природы […] различаются “лишь умозрительно” (τῇ θεωρίᾳ μόνῃ)»44. Затем речь заходит о природах «со своими действиями и волями» и наконец утверждается: «Восточные православные согласны, что православные имеют право применять формулировку “две природы”, поскольку они понимают это различие “лишь умозрительно” (τῇ θεωρίᾳ μόνῃ). Правильный смысл такого применения излагает Кирилл [Александрийский] в своем послании к Патриарху Иоанну Антиохийскому и в посланиях к епископу Акакию Мелитинскому (PG 77, 181–201), Патриарху Александрийскому Евлогию (PG 77, 224–228) и Суккенсу (PG 77, 228–245)»45.
Мы видим в этом «Втором заявлении», что нехалкидониты принимают употребление языка двух природ, но лишь при одном условии: что эта двойственность существует лишь умозрительно, то есть, что она является лишь умственным различением, не соответствующим реальному различению. Это условие было ими выдвинуто и было принято подписавшими «Заявление» православными представителями.
В данном случае нельзя говорить о каком-либо продвижении в богословском диалоге со стороны нехалкидонитов, поскольку на этой точке зрения стоял уже Севир Антиохийский46. Новость же состоит в том, что православные, подписавшие «Заявление», отказываются от «реального, фактического» различия природ и отрекаются от догматического определения Халкидонского Собора, Отцы которого исповедуют «одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух естествах […] познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств»47. При этом следует помнить, что «Отцы Халкидонского Собора ради сохранения неслитности единства стремились оградить и действительное, но не разделяющее, различение»48.
Во «Втором согласованном заявлении» проводится попытка дать обоснование утверждению, что природы различаются «лишь умозрительно», исходя из трех текстов святого Кирилла Александрийского. Следует, однако, подчеркнуть, что в знаменитом примирительном послании 433 года к Иоанну Антиохийскому49, Кирилл не говорит о «лишь умозрительном» различении природ Воплощенного Слова, но склоняется скорее к противоположному мнению. Он соглашается с распределением некоторых именований Христа между той и другой природой, «что естественно предполагает действительное различение природ, а не лишь понятийное»50. Относительно же остальных писем, на которые ссылается «Заявление» (к Акакию Мелитинскому, Евлогию, Суккенсу), действительно следует признать, что в них, как, впрочем, и в других не упомянутых здесь посланиях Кирилла51, содержится выражение о лишь умозрительном различении двух природ. Древние и современные комментаторы мысли Кирилла полагают, что он стремится таким способом отвергнуть понятие о существовании двух природ как отдельных ипостасей, но что, тем не менее, он не отрицает присутствия двух природ в Воплощенном Слове. Ф. Луфс (F. Loofs) замечает: «[Кирилл] стремится подчеркнуть, что после соединения различие [между природами] не может быть познано непосредственно, эмпирически, что необходимо умственное упражнение, чтобы различить те реальности, которые в соединении были столь тесно сгруппированы, притом что реальное многообразие природ или сущностей осталось неразрушенным»52.
Кроме того, у Кирилла это выражение уравновешивается и уточняется другими выражениями53, из которых становится ясно, что он признает в Воплощенном Слове две различные природы, но только исключает, что эти природы разлучены и разделяют Христа54. По этому поводу можно, в частности, процитировать следующие слова из первого послания к Суккенсу: «Представляя себе, каким образом произошло Воплощение, мы видим, что две природы соединились неразлучно, неслиянно, неизменно; плоть осталась плотью; она не стала божеством, хотя и стала плотью Бога; равным образом, Слово Божие есть Бог, а не плоть, хотя по домостроительству Он сделал плоть своей». Можно также процитировать следующие слова из второго послания к Суккенсу: «Единородный Сын Божий, познаваемый нами как Бог, не мог Сам воспринять страдания плоти в Свою Собственную природу [божественную], но воспринял их в свою земную природу. О Том, Кто является Единственным Истинным Сыном, нам равным образом следует утверждать и бесстрастие божественной природы, и страстность человеческой природы, ибо страдала именно плоть»55. Можно еще процитировать послание к Евлогию, в котором Кирилл признает, «что различение природ не является рассечением надвое единого Христа», что хотя во Христе «тело не единосущно Слову […], все равно [в Нем] есть две природы». Здесь же святой Кирилл соглашается с употреблением Восточными языка двух природ в той мере, в какой они правильно учат об их соединении56.
Кирилл говорил о двух природах, различаемых «лишь умозрительно», в противовес действительному разделению, утверждаемому Несторием. Однако, как справедливо замечает А. Гриллмейер, если б это ограничение имело для святого Кирилла абсолютное значение, то он бы придавал термину «природа» (φύσις) одно единственное значение, что не соответствует действительности57.
Вопреки противоположному мнению монофизитов всех мастей (в том числе севириан), в настоящее время многие историки и патрологи считают, что решения Халкидонского Собора не стали выражением дистанцирования от богословия Кирилла Александрийского58. Ведь в большинстве своем собравшиеся в Халкидон епископы были кирилловцами59. Поэтому и можно утверждать, что «Халкидонский Собор никогда не отходил от кирилловской точки зрения, которую он – наоборот – стремился подтвердить любой ценой»60. Основными документами Отцов Собора были послание Кирилла к Антиохийцам, его второе послание к Несторию, а также униональная формула 433 года. Само послание Льва к Флавиану (которое во многом определило исповедание веры Собора) «было рассмотрено и выверено на основе критерия неоспоримого авторитета Кирилла»61.
И после Халкидонского Собора православные богословы трудились над тем, чтобы показать, каким образом, вопреки неоднозначности терминологии, богословие Кирилла по существу совпадает с определением Собора. Антихалкидонские же богословы – в первую очередь Диоскор, но также Тимофей Элур, Филоксен Маббугский, Севир Антиохийский – стремились доказать противное. Таким образом, можно заметить, что Кирилл являлся высшим авторитетом как для той, так и для другой стороны, хотя понимали они его по-разному. Последнее, впрочем, объясняется неоднозначностью и изменчивостью во времени кирилловской терминологии. Между прочим, это доказывает, что недостаточно сообща процитировать ряд текстов Кирилла, чтобы доказать свое согласие друг с другом: необходимо уточнить, в каком смысле эти тексты понимаются (что тщательно избегается в «Согласованных заявлениях»), и договориться об их интерпретации (что не сделано ясным образом в этих «Заявлениях»).
К примеру, утверждение о том, что различение двух природ может быть лишь «мысленным», мы находим в столь авторитетном для православных тексте, каким является седьмой анафематизм V Вселенского Собора (553 года): «Если кто […] исповедуя число естеств в одном и том же Господе нашем Иисусе Христе, Боге Слове воплотившемся, не в представлении только принимает различие этих [естеств], из которых Он и состоит, [различие] не уничтожившееся чрез соединение, [ибо из обоих един, и чрез единого оба], но употребляет это число так, как будто естества разделены и каждое имеет свою ипостась: тот да будет анафема»62. Этот текст не цитируется в «Согласованных заявлениях» – вероятно, о нем забыли при их составлении, – но позднее его приводит митрополит Дамаскин63. Последний, однако, судя по всему, не заметил, что в устах Отцов V Вселенского Собора значение этого текста вовсе не идет в пользу нехалкидонитов, но что, наоборот, он должен рассматриваться именно в халкидонской перспективе64. В заключение пространного изложения по этому вопросу А. де Аллё (A. de Halleux) пишет: «Единственная цель седьмого анафематизма V Вселенского Собора – исключить утверждение “будто естества разделены и каждое имеет свою ипостась”. Однако в нем нисколько не ставится под сомнение число природ и никак не предполагается, что природы должны быть рассматриваемы как абстрактные понятия, как мысленные единицы, не имеющие конкретной реальности»65.
Текст же «Заявлений» был составлен в терминах, которые вызывают сильные сомнения относительно того, как следует его понимать. В целом можно сказать, что православные представители отказались от употребления тех выражений, которые позволили бы понять «Заявления» в духе Халкидона. Наоборот, они, судя по всему, согласились с требованиями своих собеседников-антихалкидонитов, которые смогли здесь высказаться, оставаясь в полном соответствии с севирианским богословием. В последнем выражение «лишь умозрительно» не сопутствует сохранению двойственности в реальном порядке вещей – как мы то видели у Кирилла. Здесь это выражение соответствует «логической двойственности (θεωρίᾳ δύο), противопоставленной реальной двойственности (ἐνεργείᾳ δύο): то, что различается лишь в θεωρία, не различается в реальности; после соединения природы уже ни в чем по-настоящему не различаются – лишь мысль создает между ними чисто воображаемое различие»66. В севирианском богословии реальность признается только за сложной природой или ипостасью Христа (которая в «Первом заявлении» определена как «[нераздельно и неслиянно] соединенное, реальное [πραγματική] богочеловеческое бытие [ὕπαρξις]»67). При этом, как только Слово становится Воплотившимся Словом, человеческая природа Христа уже не может иметь реального бытия, но может быть различена лишь умозрительно68, то есть рассудочным различением, не соответствующим реальному различию). Антихалкидониты, как все монофизиты, признают, что единый Христос существует из (ἐκ) двух природ69, но не (как это сказано в халкидонском исповедании) в (ἐν) двух природах: по их мнению, двойственность природ упраздняется соединением (это, собственно, и стало источником имени «монофизиты»).
Да, умеренно-монофизитское богословие (представленное, в частности, Диоскором, Тимофеем Элуром, Петром Монгом, Филоксеном Маббугским, Иоанном Теллским, а главное – Севиром Антиохийским) не доходит до полного упразднения человеческой природы Христа в отличие от крайнего монофизитства Евтихия (который утверждает, что человеческая природа была поглощена божественной природой). Тем не менее и умеренные монофизиты значительно ограничивают реальность человеческой природы в пользу божественной природы Слова. Это подтверждается другими сторонами этого богословия. Мы это, в частности, увидим при исследовании70 значения, придаваемого в нем формуле «единая природа Слова воплощенная», которая, кстати, исповедуется в «Согласованных заявлениях». Особенно же это становится ясным при рассмотрении севирианского понимания единой энергии и единой воли Воплощенного Слова71.
Само понимание выражения о «лишь умозрительной» двойственности природ весьма относительно, поскольку, как это ни парадоксально, сам Севир признает, что «умозрительно» можно различать во Христе и две ипостаси, или лиц (связано это с тем, что он утверждает синонимию между «природой» и «ипостасью», или «лицом»)72.
Несмотря на сходство языка, у Севира понятие «умозрительности» (θεωρία) приобретает значительно более докетическое значение, чем то было у Кирилла73. Человечество Христа, согласно севирианскому богословию, ограничивается проявлением природных «качеств» (а вовсе не собственно свойств)74. «Природное же качество» (ποιότης φυσική) является лишь выражением образа бытия (ὁ λόγος τοῦ πῶς εἶναι)75. Другими словами, Севир и его последователи признают человеческое состояние и человеческие поступки Слова, но не признают за ними человеческого бытия76. Как замечает А. Гриллмейер, в данной перспективе во Христе нет даже собственно человеческих способностей: «Отказывая человеческому бытию Христа в именовании “природой”, Севир лишил себя возможности признать за человечеством Христа собственную познавательную способность, собственную свободную волю и, в конце концов, самосознание»77. В том же духе о. Георгий Флоровский отмечает: «От св. Кирилла монофизитов отличает прежде всего дух системы. Перестроить вдохновенное учение Кирилла в логическую систему было очень нелегко. И терминология затрудняла эту задачу. Всего труднее было отчетливо определить образ и характер человеческих “свойств” в Богочеловеческом синтезе. О человечестве Христа севириане не могли говорить как о “естестве”. Оно разлагалось в систему свойств. Ибо учение о “восприятии” человечества Словом еще не доразвилось в монофизитстве до идеи “во-ипостасности”. Обычно монофизиты говорили о человечестве Слова, как о “домостроительстве” (οἰκονομία). И не напрасно “синодиты”(так противники Халкидонского Собора называли его сторонников (православных). – Ред.) улавливали здесь тонкий привкус своеобразного докетизма. Конечно, это совсем не докетизм древних гностиков, и не аполлинаризм. Однако для севириан “человеческое” во Христе не было вполне человеческим. Ибо не было активным, не было “самодвижным”, – здесь тончайшее сродство с Аполлинарием, которого смущало именно соединение “двух совершенных и самодвижных”... В созерцании монофизитов человечество во Христе было как бы пассивным объектом божественного воздействия. “Обожение” (феозис) представлялось как односторонний акт Божества, без достаточного учета синэргизма человеческой свободы (допущение которой вовсе не предполагает “второго субъекта”). В их религиозном опыте момент свободы вообще не был достаточно выражен, – это и можно назвать антропологическим минимализмом»78.
Устанавливая синонимию между «природой», «ипостасью» и «лицом»79, Севир лишается всякого способа выразить конкретность, реальность существования человечества во Христе: он может о нем говорить лишь совершенно в номинальном значении. Севир это вполне осознавал и затруднялся ответить на это возражение, выдвигаемое против него его современниками.
Оба «Согласованных заявления» отображают эти затруднения. Например, определение в них, по образцу терминологических приемов нехалкидонского богословия, человеческой природы Христа – «человеческое», «человечество» – явно неоднозначное и недостаточное. Действительно, в рамках нехалкидонского богословия эти термины обозначают лишь человеческие черты характера, не связанные при этом с человеческой природой, которая придавала бы им истинную и полноценную человеческую реальность. Таким же образом утверждение о том, что Христос «единосущен Отцу по божеству и единосущен нам по человечеству»80, не составило, как думается некоторым, сдвига в диалоге. Эта формула, присутствующая в определении Халкидонского Собора, также всегда признавалась в нехалкидонском богословии81. К примеру, именно в таком виде она приводится не только в творениях Севира82, но и в самом сердце Коптской Литургии («Литургии Василия»), в которой она соседствует с ясно выраженным отрицанием двойственности природ: Слово «стало человеком, единосущным Отцу по божеству и единосущным нам по человечеству; не имея двух лиц, или двух форм, и не будучи также познаваемо в двух природах, но Единый Бог, Единый Господь, единая ипостась, единая воля, единая природа Бога Слова воплотившаяся»83.
Таким образом, антихалкидонское богословие, под благочестивым предлогом необходимости утвердить единство Воплотившегося Слова против несториан, ставит под сомнение саму реальность человеческой природы во Христе.
Это богословие развивается в рамках того, что отец Георгий Флоровский называет, как указано выше, «антропологическим минимализмом» – концепцией, которая не только нарушает равновесие Того, Кто есть Христос, но и представляет собой существенную угрозу правильному пониманию спасения и обожения человека (угрозу противоположную, но не меньшую той, которую собой представляет нравственная концепция несторианства). Ведь человек может быть поистине спасен и обожен только в том случае, если Слово восприняло в Себя действительно и непреложно пребывающую человеческую природу84.
Следует заметить, что утверждение о различении двух природ «лишь умозрительно» плохо уживается с диэнергизмом и дифелитством, которые также находят свое выражение в «Согласованных заявлениях»85. Действительно, как верно подмечает А. де Аллё, «непонятно, как можно говорить о них, не утверждая вместе с тем реального дифизитства»86. Приходится задаваться вопросом о том, чтó все же означает то признание существования двух энергий и двух воль в Воплотившемся Слове, которое мы находим в двух «Согласованных заявлениях» (а именно это признание является, на наш взгляд, наиболее значительным прогрессом богословского диалога). Встает вопрос: не понимают ли (умалчивая об этом) подписавшие «Согласованные заявления» нехалкидониты эту двойственность «лишь умозрительно»87.
III. Двусмысленность формулы «единая природа Бога Слова воплощенная»
В «Первом согласованном заявлении» утверждается, что «на протяжении наших обсуждений мы обнаружили нашу общую почву в формуле нашего общего Отца, святого Кирилла Александрийского: μία φύσις τοῦ Λόγου σεσαρκωμένη [единая природа (ипостась) Бога Слова воплощенная]»88.
Однако, чтобы свидетельствовать о подлинном богословском согласии, явно недостаточно договориться об использовании этой формулы и принять за основу общее почитание Кирилла Александрийского. Один из ведущих специалистов по наследию Кирилла Ж. М. де Дюран (G. M. de Durand), подчеркивает: «то, что [в прошлом] эти пять слов породили неограниченный поток толкований, само по себе доказывает всю их неоднозначность»89.
Как известно, эта формула имеет еретическое происхождение: она взята из сборника апокрифических текстов, часто называемого Аполлинаристские подлоги, а точнее – из послания к Иувиану Аполлинария, которое ученики последнего, чтобы придать ему авторитетность, скрыли под именем Афанасия. Кирилл перенял эту формулу, однако очистил ее от аполлинаристского смысла. Несмотря на то, что различные контексты, в которых эта формула употребляется у Кирилла, позволяют по-разному ее интерпретировать, можно считать, что та единая природа (φύσις), о которой здесь говорит Кирилл, не составлена из сочетания нескольких элементов (человечества и божества) или из перехода одного в другой90. «Речь идет о φύσις [природе] Слова: точка отсчета – именно Он, Божественное Лицо, от века обладающее этой φύσις, а не какое-либо имя (к примеру – Христос), в котором уже заключалась бы ссылка на человечество»91. Ссылка же на «совершенное человечество», на «сущность (οὐσία), подобную нашей»92, «полностью содержится в прилагательном “воплощенная”, которое относится непосредственно к Слову или к φύσις»93. Таким образом, «сами по себе, термины φύσις94 и σεσαρκωμένη равным образом указывают на сущность: на божественную сущность Слова и на “плоть”, которая является сущностью, выражением нашего человеческого бытия»95. Это объяснение современных специалистов наследия Кирилла совпадает с пониманием святого Максима Исповедника, который полагал, что в этой формуле Кирилл подразумевал исповедание двух природ Христа: божественной природы под словом φύσις, а человеческой природы под словом σεσαρκωμένη96.
Следует, кроме того, учитывать, что Кирилл не употреблял эту формулу «без определений и всегда в одном и том же смысле»97. Это доказывается хотя бы тем, что он не колеблясь применяет понятие природы (φύσις) к человечеству Христа, причем как до, так и после Ефесского Собора98. Он лишь исключает такое употребление этого термина, которое разделяло бы Христа. Другими словами, Кирилл – мы это видели в предыдущем разделе – без колебаний исповедует две природы во Христе99. С этой точки зрения, как верно замечено А. Гриллмейером, Кирилл отличает приемлемую христологическую концепцию от неприемлемой, «исходя не из употребления формулы о природах самой по себе, но из определения соотношения двух природ […]: различение природ необходимо, разделение – подлежит осуждению»100.
Итак, рассматриваемое выражение употребляется у Кирилла в целом довольно редко101, при этом – в значении, согласующемся с Халкидонским определением веры102. Это станет еще яснее, если мы будем учитывать другие выражения великого Александрийца, освещающие его мысль и позволяющие осознать ее в полноте. У Севира же эта формула становится лейтмотивом и притом приобретает более узкое и застывшее значение, чем у Кирилла. Она становится, так сказать, его «любимым оружием против Халкидона»103.
Конечно, эта формула была принята V Вселенским Собором (Вторым Константинопольским, 553), и митрополит Дамаскин не преминул воспользоваться этим аргументом в своей апологии «Согласованных заявлений»104. Однако при этом он не обратил внимание на то, что Собор цитирует эту формулу в явно халкидонском значении и с тем, чтобы исключить любую возможность понять ее в монофизитском или, наоборот, в несторианском значении105.
IV. Неясность некоторых выражений
Некоторые выражения, встречающиеся в «Заявлениях», являются проблемными в силу неясности их значения.
«Согласованные заявления» были составлены богословами, говорящими на различных научных языках. Как следствие, в тексте «Заявлений» встречаются сочетания, которые, с одной стороны, достаточно забавны по своей противоречивости, а с другой – довольно показательны, ибо раскрывают монофизитский уклон этого текста.
К примеру, участвующие в диалоге богословы считают, следуя интерпретации Ж. Лебона, что нехалкидониты понимают термин «природа» в значении термина «ипостась». В некоторых частях «Заявлений» эта синонимия подразумевается, другими же частями – исключается. К примеру, в «Первом заявлении» мы находим довольно странное выражение по поводу «ипостаси Логоса»: «Та же ипостась, в отличие от природы, Воплощенного Логоса – также несложная (ἡ ὑπόστασις καί ὡς διακεκριμένη ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου δέν εἶναι ἐπίσης σύνθετος)»106. Очевидно, что в данном случае «природа» не понимается как синоним «ипостаси», так что здесь можно предположить влияние халкидонского и неохалкидонского языка. При этом, следуя этому халкидонскому различению, мы спрашиваем себя – о какой же природе идет речь? И в конечном итоге осознаем, что столкнулись с типично монофизитским утверждением о единственной природе Воплощенного Слова, которую нельзя отождествить с Его ипостасью: синонимия ясно исключена первой частью предложения…
Само выражение «сложная ипостась» употребляется в тексте «Заявлений» в самых разных значениях, что явно выражает отсутствие единства в употреблении терминологии. А. де Аллё, прекрасный знаток как нехалкидонского107, так и халкидонского богословия, вроде бы распознает в том, как это выражение употребляется в «Заявлениях»108, неохалкидонскую формулу109. Действительно, такое мнение оправдывается тем объяснением, которое упомянутое выражение получает в «Первом Заявлении»: «единая вечная Ипостась Второго Лица Святой Троицы восприняла нашу тварную человеческую природу, в этом акте соединяя ее со Своей собственной нетварной божественной природой»110. Однако рассмотренная нами выше формула, согласно которой «та же ипостась, в отличие от природы, Воплощенного Логоса – также несложная», вносит неясность. Эта неясность усиливается тем, что выражение «сложная ипостась» не является исключительным достоянием богословов-неохалкидонитов, но употребляется и нехалкидонитами, притом в таком значении, когда «ипостась» является синонимом «природы». Сам Севир говорит о «единой сложной природе и ипостаси» (μία φύσις καὶ ὑπόστασις σύνθετος)111.
Третье двусмысленное и неясное выражение связанно с предыдущим: речь идет об утверждении, согласно которому «единая вечная Ипостась Второго Лица Святой Троицы восприняла нашу тварную человеческую природу, в этом акте соединяя ее со Своей собственной нетварной божественной природой для создания нераздельно и неслиянно соединенного реального Богочеловеческого существа [πραγματικήν θεανθρωπίνην ὕπαρξιν]»112. «Богочеловеческое существо», «богочеловеческое бытие» – вот поистине непривычный для православного богословия способ именовать Христа. На самом-то деле это выражение оставляет лазейку для севирианского понимания ипостаси Христа из-за применения словосочетания «сложная природа» в значении, вовсе не совпадающем с тем, которым неохалкидонские богословы наделили выражение «сложная ипостась» и в котором это последнее выражение обычно употребляется православными богословами.
Еще одним примером двусмысленного и неясного выражения стало пожелание того, чтобы «те среди нас, которые говорят об одной соединенной богочеловеческой природе во Христе (περί μιᾶς ἡνωμένης θεανθρωπίνης φύσεως ἐν Χριστῷ), тем самым не отрицали продолжающегося динамического присутствия во Христе божественного и человеческого (τήν συνεχῆ παρουσίαν ἐν Χριστῷ τοῦ θείου καί τοῦ ἀνθρωπίνου), неизменно, неслиянно»113. Естественно спрашивается, а что же есть «единая богочеловеческая природа Христа»? Если под «природой» подразумевается ипостась, то приведенное предложение ошибочно, поскольку ипостась Христа не богочеловеческая114, но божественная115. Если же речь идет о природе, то мы сталкиваемся с чисто монофизитским утверждением, поскольку Христу приписывается лишь одна природа. Более того, речь идет о сложной природе, ибо, несмотря на отрицательное наречие, проставленное в конце предложения, здесь смешиваются божественная и человеческая природа. Ну и наконец: что означает «соединенная природа Христа»? Либо обе природы соединены вместе в единой ипостаси, либо обе они соединены с ипостасью, либо каждая из них соединена с ипостасью; но в православной христологии никак не может идти речь об «одной соединенной природе». Кроме того, встает вопрос: а что же такое «продолжающееся динамическое присутствие во Христе божественного и человеческого» (предполагается, что это подтверждает предшествующее утверждение)? Заметим, что употребление выражений «божественное» и «человеческое» является еще одним способом уклонения от утверждения того, что у Христа – две природы. К тому же через это словоупотребление природы Христа сводятся к свойствам, чертам (см. выше). Но, кроме того, выражение «постоянное динамическое присутствие» звучит странно и не соответствует традиционной святоотеческой терминологии. Отцы Церкви (к примеру, святой Максим Исповедник, святой Иоанн Дамаскин) утверждают, что каждая природа Христа пребывает со своими dynameis (силами, свойствами) и своей собственной энергией, которая позволяет этим dynameis быть активными. Но выражение «динамическое присутствие» – эклектическое, не соответствующее ни собственно dynamis, ни energeia. Этой формулой, при попустительстве православных, в «Заявлении» вновь была выражена монофизитская перспектива. А именно, здесь не только не признается наличие двух природ во Христе, но к тому же отказано в признании и тем свойствам и энергиям, которые принадлежат этим природам, – по той простой причине, что признать их и назвать их по имени означало бы признать те природы, к которым они привязаны. Поэтому употребляется перифраза, которая на самом-то деле мало что означает и лишь приводит к тому, что в очередной раз принижается реальность человеческой природы (а в данном случае – также и природы божественной).
Все изложенное выше является еще одним образцом того сбивчивого богословия и терминологии, которые, если униональный проект будет принят в его нынешнем изложении, восторжествуют вследствие признания равноценности (а значит, и безразличного или даже совместного употребления) двух способов выражать христианскую веру – халкидонского и нехалкидонского. Это признание уже подразумевалось первым «Согласованным заявлением», которое ставит вопрос о том, не употребляли ли всегда Отцы термины physis и hypostasis как взаимозаменяемые, смешивая один с другим116. Этот вопрос, очевидно, ставился с тем, чтобы придать легитимность употреблению смешанного языка самими авторами «Заявления». Но ведь очевидно же, что упомянутое отождествление свойственно вовсе не православным Отцам Церкви, но именно отцам и защитникам несторианской и монофизитской ересей (правда, в разном смысле).
V. Употребление двусмысленности языка святого Кирилла в виде ширмы
На самом деле в том и другом «Заявлении» прослеживается стремление избежать употребления православной халкидонской и послехалкидонской терминологии и добиться согласия на основе дохалкидонской терминологии, со ссылкой на Кирилла Александрийского.
Для начала напомним о том, что уже нами было сказано: невозможно никакое соглашение лишь на основании взятых в отдельности формул святого Кирилла Александрийского, ни даже на основании совокупности его творений по причине неоднозначности используемой им терминологии. Эта терминология позволила Кириллу решить ряд проблем, поставленных ересями Аполлинария и Нестория, но она же стала источником новых трудностей. Как отмечает А. Гриллмейер, «личный вклад Кирилла был настолько амбивалентный, что его творения могли быть приняты на вооружение двумя противоположными (антитетическими) христологиями, в зависимости от того, что искать в этих творениях»117.
Встретившись с развитием монофизитства, Церкви пришлось уточнить свою веру и устранить двусмысленности, связанные с неточностью терминологии Кирилла, предложив вместе с тем ключ к православному пониманию его богословия.
Впрочем, это произошло постепенно. В течение многих лет единственными творениями Кирилла, за которыми православные признавали безусловный авторитет и которым Халкидонский Собор придал каноническое значение, были Второе послание к Несторию и Объединительное послание. Другие творения Кирилла (к примеру, Третье послание к Несторию, включающее в себя Двенадцать анафематизмов, а также Второе послание к Суккенсу и Послание к Евлогию) приобрели это значение лишь с появлением богословского течения, называемого «неохалкидонским», которое развилось в царствование Иустиниана. Оно стремилось доказать, что те формулы Кирилла, на которые ссылались монофизиты, чтобы оправдать свое учение, на самом деле полностью соответствовали Халкидонскому догмату118.
Оппозиция Халкидонскому Собору также показала свою приверженность к личности и мысли Кирилла (вплоть до того, что, к примеру, Севир Антиохийский ставил его авторитет выше авторитета всех других Отцов Церкви), но дала толкование его мысли в радикально ином ключе, связанном в той или иной степени с монофизитским течением.
При этом ради достижения своей цели Севир Антиохийский не только не колеблясь скрыл некоторые выражения Кирилла, не соответствующие его собственной христологии, но подверг его мысль и мысль предшествующих ему отцов настоящей «терминологической чистке», вплоть до изменения некоторых употребляемых ими выражений, ради – с его точки зрения – «благой цели»119. Он полагал, что эти выражения относились к «неотесанному языку», который был подходящим в свое время, но отныне должен был быть заменен более тонким языком120. Такой подход и такая практика не только доказывают относительность приверженности Севира святоотеческому преданию и самому Кириллу, но к тому же показывают гордыню того, кто не колеблясь считал себя судьей Предания и ставил собственную мысль и выражения выше святоотеческих121.
Нельзя просто взять и назвать «дохалкидонским» употребление в обоих «Согласованных заявлениях» языка Кирилла и предшествующих ему Отцов Церкви. Развитие церковной истории не позволяет смотреть на дохалкидонский язык иначе, чем через призму позднейших интерпретаций. Двусмысленность языка святого Кирилла требует твердого решения относительно его интерпретации.
«Заявления» же, вместо того чтобы предлагать интерпретацию приведенных формул, явно пользуются ими в виде ширмы, извлекая все возможное из их неоднозначности: согласие по поводу кирилловских формул на самом деле скрывает за собой разногласие между православными и нехалкидонитами по поводу того значения, которое им следует придавать.
Об униональном проекте часто говорят, что он свидетельствует о разнице в формулировках, но о согласии по существу; мы же здесь видим, что дело обстоит с точностью до наоборот: есть согласие относительно некоторых формул, но разногласие по существу вопроса.
VI. Отсутствие взаимности в признании образа выражения веры той и другой стороны
При чтении «Согласованных заявлений» поражает отсутствие какой-либо ссылки на Халкидон и почти полное исключение (разве что в двусмысленном и сбивчивом значении) халкидонского языка (наречия «неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно», казалось бы, взяты из этого языка; однако на самом деле мы их находим уже у Кирилла, да их нередко можно встретить и у нехалкидонских богословов122).
Наоборот, широко используется нехалкидонский язык (язык Кирилла, но также язык антихалкидонских богословов, в том числе Севира Антиохийского).
Таким образом, мы сталкиваемся не просто с неравновесием, но и с отсутствием взаимности в использовании и признании способа выражения своей веры теми, кого «Заявления» называют «двумя семьями Церкви Христовой».
Если бы они действительно, как это утверждается в обоих «Заявлениях», обладали одной и той же верой, унаследованной от Отцов, если бы имело место разногласие не по существу, но основанное лишь на расхождении в употреблении терминов, по-разному указывающих на одни и те же истины, и если бы эти терминологические различия были выяснены и недоразумения стерты, то непонятно, что могло бы помешать нехалкидонитам признать легитимным то, как православные выражают свою веру в халкидонских терминах (причем эффективно – исповедуя ее), точно так же, как подписавшиеся под «Заявлениями» представители православных признали легитимным то, как Восточные Церкви выражают свою веру в нехалкидонских терминах.
Предположим, православные признают, что нехалкидониты не могут исповедовать, что во Христе «две природы», поскольку для них термин «природа» равнозначен термину «ипостась», а значит, для них исповедание «двух природ» равнозначно несторианскому исповеданию двух ипостасей или лиц во Христе. Но в таком случае почему же нехалкидониты не могут признать, что для православных термин «природа» неравнозначен термину «ипостась», а значит, и утверждение ими «двух природ» во Христе не означает, что Он является двумя ипостасями, или лицами, и равным образом не означает, что Его природы разделены, ибо двойственность для православного не означает ни разделения, ни разлучения… Такое признание халкидонского выражения православной веры может быть тем легче принято нехалкидонитами, что опасность несторианства давно уже устранена; те уточнения, которые были даны со времени Халкидонского исповедания (в частности – касательно единой ипостаси Христа) совершенно ясно исключают какую-либо его несторианскую интерпретацию.
Трудно не остаться при впечатлении, что нехалкидонитаму далось здесь навязать своим православным собеседникам свое исповедание веры в нехалкидонских выражениях – причем без какой-либо взаимности123.
Исходя из этого, трудно также не прийти к выводу, что нежелание нехалкидонских Церквей гласно признать легитимность за теми формами, в каких Православные Церкви исповедуют свою веру, и – в виде взаимности – самим исповедовать ее в халкидонских терминах свидетельствует о том, что они сохраняют свое разногласие с православной верой так, как она была исповедана в Халкидоне, притом не по форме только, но и по существу124. Действительно, те, которые достигают согласия по существу, могут также достичь его и относительно способа выражения истины125.
В одном из своих писем к армянам святой Фотий справедливо подчеркивал, что две противоположные ереси – монофизитство и несторианство – характеризуются тем, что они обе употребляют православные формулировки, но при этом являются еретическими, поскольку отрицают другие формулы, столь же православные. К примеру, монофизиты исповедуют «единую природу Слова воплощенную», но отказываются признавать во Христе «две природы». Наоборот, несториане исповедуют во Христе «две природы», но отказываются признавать «единую природу Слова воплощенную». Православные же исповедуют ту и другую формулы126. Отнюдь не видно, чтобы в «Согласованных заявлениях» та и другая формулы исповедовались одновременно: признается лишь та, что утверждает «единую природу Слова воплощенную». Итак, если следовать установленному святым Фотием критерию, можно всерьез усомниться в православии подписавших эти документы.
VII. Переоценка исторических факторов
В ходе диалога было справедливо отмечено и осмыслено значение тех исторических факторов (политических, культурных, языковых, психологических), которые некогда повлияли на появление и поддержание разногласий между Православными и нехалкидонскими Церквами. И все же значение этих факторов было существенно преувеличено или даже, что намного хуже, значение других факторов было несправедливо умалено вплоть до их отрицания – в частности, это касается догматических факторов.
Не очень серьезно звучат слова о том, что догматические расхождения появились и сохранялись лишь в силу терминологического недоразумения между людьми, использовавшими разные языки для обозначения одной и той же реальности. Полагать, что члены комиссий по диалогу заметили то, что за пятнадцать веков не было никем замечено на Востоке (а именно – совершенное тождество по вере между халкидонитами и нехалкидонитами), – значит приписывать этим «экспертам» некий высший разум. А главное – это значит смотреть на таких Отцов и богословов, как святой Иустиниан, святой Анастасий Синаит, святой Максим Исповедник, святой Иоанн Дамаскин и святой Фотий, как на каких-то недоумков. А ведь они, будучи из числа умнейших и культурнейших людей своего времени и войдя в сонм величайших учителей Церкви, посвятили значительную часть своей жизни и трудов борьбе с нехалкидонской христологией127. Если признать правоту приведенного выше мнения, придется, как следствие, признать и то, что «эксперты» (в том числе профессиональные богословы, входившие в состав комиссий и подкомиссий митрополита Дамаскина) получили (с большим, правда, опозданием…) неожиданное озарение от Святого Духа. И, наоборот, придется признать, что святые и богоносные Отцы Церкви, разработавшие исповедание веры Халкидонского Собора или – на более поздних Вселенских Соборах – подтвердившие это исповедание и провозгласившие анафему на монофизитских богословов разных толков (в том числе – Диоскора, Севира Антиохийского…), были полностью лишены содействия Святого Духа и Его озарения, будучи движимы чисто человеческими – политическими или психологическими – мотивами…
Да и с противоположной стороны – невозможно себе представить, чтобы такой тонкий богослов, хорошо умевший пользоваться языковыми нюансами, каким был Севир, был неспособен распознать – если дело обстояло именно так, – что различие между его собственной и халкидонской точками зрения основывалось лишь на терминологическом недоразумении, что на самом-то деле различные формулировки определяли одно и то же видение128. К тому же со времени Халкидонского Собора в течение десятков, а затем и сотен лет халкидонские и нехалкидонские богословы имели вполне достаточно возможностей для встреч, сопоставления своих позиций и разъяснения их129. По этой же причине они были намного способнее понять взаимную аргументацию, чем нынешние богословы, которые исследуют ее по отдельности и лишь на основании письменных трудов. Например, Иустиниан прекрасно осознавал, что монофизиты рассматривали термины φύσις (природа), ὑπόστασις (ипостась) и πρόσωπον (лицо) как синонимы130. Равным образом и Максим Исповедник, будучи на Крите, провел подробные собеседования с севирианскими епископами, что позволило ему точно оценить их точку зрения131.
Совершенно бессмысленно говорить о том, что Диоскор и Севир были осуждены лишь по причине своей оппозиции Халкидону, а не по причине своих догматических воззрений (как будто одно не имеет отношения к другому!). Диоскор поддержал Евтихия и принял его в общение именно потому, что разделял его неправославную веру132. Относительно же Севира Антиохийского – достаточно посмотреть на пространные труды святого Иустиниана133, святого Анастасия Синаита, святого Максима Исповедника134 или святого Иоанна Дамаскина135 (мы называем здесь лишь основных богословов136), посвященные опровержению его богословских воззрений, чтобы понять, что проблема – именно в них. Эти же труды показывают, что в глазах Отцов речь шла не о мелочах, не о терминологических недоразумениях, но поистине о понимании того, Кто есть Христос, что есть спасение человечества. А именно: если бы Христос не был в полной мере, поистине и действительно человеком, обладавшим человеческой природой, если бы после соединения все свойства человеческой природы реально не сохранялись в Нем в виде действительно существующей человеческой природы (но притом природы, действительно Ему принадлежащей и нисколько не отделенной от божественной природы, которая также Ему принадлежала), то Он и не мог спасти человека во всем том, что есть человек, по неоднократно повторенному Отцами – от святого Григория Богослова до святого Иоанна Дамаскина – принципу: «То, что не воспринято, не может быть исцелено».
VIII. Статус Севира Антиохийского
Отныне встает проблема статуса Севира Антиохийского. Ведь он был и остается основным богословом большинства нехалкидонских Церквей137, тем, кто, подытожив разработки своих предшественников – антихалкидонитов, привел нехалкидонское богословие к наивысшей точке развития и точности138.
Предложенное Смешанной комиссией по диалогу139 снятие анафем предполагает, что в лоне Православной Церкви не только придется снять с Севира осуждение в ереси (см. ниже), но и признать его святым, поскольку он был канонизирован Восточными Церквами140. Ведь униональный проект предполагает восстановление с ними полного общения, что означает взаимное признание и почитание святых той и другой Церкви.
Подписавшие «Заявления» православные оправдывают снятие анафем, произнесенных на Севира Антиохийского, утверждением, что будто бы на самом деле он не монофизит, то есть не еретик, а его осуждение в прошлом основывается на недоразумении. То есть его монофизитство будто бы является лишь «терминологическим» и приписывается ему лишь потому, что он исповедует «единую природу Слова воплощенную». Таким образом, недоразумение будто бы исчезнет, если признать, что для него «природа» означает «ипостась» и что он как по этому вопросу, так и по другим лишь повторяет формулировки и мысль Кирилла Александрийского, православие которого никто под сомнение не ставит.
Православные, подписавшие «Согласованные заявления», позаимствовали эту идею в исследованиях ряда католических и протестантских патрологов начала XX века. Их список возглавляет Ж. Лебон, посвятивший Севиру два высококачественных исследования, в которых содержится точное изложение его богословия141. Упомянутую выше идею защищают также другие патрологи, явно находящиеся под влиянием впечатляющего изложения Ж. Лебона, например: М. Жюжи (M. Jugie)142, Ж. Барди (G. Bardy)143, И. Торранс (I. Torrance)144.
Примечательно, что это движение в пользу реабилитации Севира Антиохийского соседствовало с параллельным движением, возглавляемым другими католическими патрологами, в пользу реабилитации главного противника Севира Антиохийского, принадлежащего другому монофизитскому толку, – Юлиана Галикарнасского145, а особенно с движением в пользу реабилитации Нестория и его учителей (в частности, Феодора Мопсуэстийского). Им также стали приписывать строго православные воззрения, объясняя их осуждение в прошлом простым недоразумением146. Если верить упомянутым нами трем течениям, севириане, юлианиты и несториане могут легко договориться между собой и договориться с православными, поскольку все прошедшие конфликты объясняются небогословскими факторами и легко устранимыми языковыми недоразумениями147.
Основной вывод Ж. Лебона, утверждающего православность Севира, строится на признании соответствия мысли Севира мысли Кирилла. Этот аргумент повторяется всеми теми, кто строит свою аргументацию на исследованиях Ж. Лебона148. Но дело в том, что Ж. Лебон устанавливает это соответствие посредством интерпретации Кирилла в свете Севира. Эта интерпретация полностью противоречит всему православному преданию, да и осуждается значительным числом других патрологов149.
Сторонники унионального проекта, утверждающие православие севирианского богословия, ссылаются на то, что термин «монофизиты» был применен к самым разным учениям, которых при этом отождествили друг с другом. Разумеется, совершенно неприемлемо отождествлять христологию Севира и Евтихия, однако столь же неприемлемо считать, что раз одно из этих течений может быть названо монофизитством в собственном и наиболее распространенном значении, то этот термин уже не может быть применен к другому. Конечно, по сравнению с монофизитством Евтихия воззрения Севира (а равным образом и Диоскора, Тимофея Элура, Петра Монга, Филоксена Маббугского, Иоанна Теллского…) соответствуют «умеренному монофизитству» – тому, что Ф.-Кс. Мэрфи (F.-X. Murphy) и П. Шервуд (P. Sherwood) остроумно называют «левым крылом монофизитства»150. И все же это – одна из форм монофизитства. Оно не является чисто терминологическим, хотя кое-кто (вслед за А. Гарнаком, Ж. Лебоном и М. Жюжи) стремится навязать нам эту мысль. Название «монофизиты» не связано и с тем, что ими употребляется выражение «единая природа Слова воплощенная»: ведь и Кирилл многократно употреблял эту формулу, но при этом никто никогда не называл его монофизитом.
Некоторые исследователи утверждают, что применение эпитета «монофизитское» к богословию Севира, его предшественников и преемников – относительно недавнее явление151. Это не совсем верно: мы его находим уже в древних текстах, современных критикуемым авторам. Впрочем, даже если б это было верно, то отнюдь не означало бы, что древние не считали это богословие монофизитским: они называли его последователей более точными именами, которые позволяли различать многочисленные секты, порожденные позднейшими по отношению к Халкидону разделениями, связанными с монофизитским движением152.
В конце концов – то, что мы говорим об «умеренном монофизитстве» и отличаем его от монофизитства Евтихия, не означает, что мы не видим в нем признаков ереси153.
Мы находим весьма странным метод, согласно которому утверждается, что нехалкидониты православны лишь по той причине, что они неевтихиане: именно этот метод применили составители «Второго заявления», как то видно из следующего предложения: «Православные согласны, что восточные православные могут продолжать придерживаться своей традиционной кирилловской терминологии о “единой природе Слова воплотившейся”, поскольку под ней понимают сугубое единосущие Слова, которое отвергал Евтихий»154. Как будто утверждение двойного единосущия, отрицаемого Евтихием, является достаточным свидетельством православия (на самом-то деле двойное единосущие всегда утверждалось севирианами – в значении, отличном от исповедуемого халкидонским православием155). Тот же метод мы находим в ответе митрополита Дамаскина Святогорскому братству: «Межправославная комиссия исследовала источники того времени, равно как и труды Диоскора и Севира, и пришла к выводу, что последние не были ни вдохновителями, ни последователями евтихианского монофизитства и что, следовательно, к ним нельзя применять позорное имя еретиков-монофизитов»156.
Несмотря на всю свою странность, этот метод вовсе не нов: еще святой Фотий упрекал в его применении одного из своих корреспондентов, при этом снабжая такой подход адекватной оценкой: «Ты отвергаешь учение Евтихия и думаешь, что благодаря этому ты приобрел истинное видение […]. Тебе надо знать, что недостаточно отмежеваться от Евтихия, чтобы избежать всякого упрека, подобно тому, как в области нравственности не является совершенным в добродетели тот, кто не совсем развращен, или подобно тому, как не считается мужественным тот, кто лишь отказался сотрудничать с врагом, или подобно тому, как следует сражаться с врагами и преследовать их вплоть до победы, чтобы быть названным победителем. Равным образом и тот, кто не принимает ересь до самого ее дна, еще не может называться православным: для этого нужно, чтобы он и во всех остальных вещах прилеплялся к истинному благочестию, ставил себя вне всякой критики и возвышался до совершенной веры […]. Ты бежишь Евтихия? Но если при этом ты хвалишь Диоскора, общаешься с Севиром, смотришь на вещи лишь через Иакова [Барадея], то не осознаешь, что ты находишься в одной цепи и одном заговоре с еретиками, будучи влеком с ними к одной и той же пропасти погибели»157.
По утверждению сторонников унии то, что учение Севира и других умеренных монофизитов отличается от учения Евтихия, является недавним открытием, а потому требует пересмотра в лучшую сторону отношения к первым. На самом деле, хотя Отцы Церкви не разделяют умеренных и крайних монофизитов и объединяют их в одно монофизитское целое, рассматриваемое ими как еретическое без различия степени неправоты его членов, тем не менее мало кто из них не осознает это известное уже с давних времен различие. Труды, составленные Севиром против воззрений Евтихия, никогда не позволяли сомневаться в том, что он их отрицал. Когда в 532 году по инициативе Иустиниана состоялись собеседования между умеренными монофизитами (возглавляемыми Иоанном Теллским) и православными, обе стороны с первого же дня согласились на том, что Евтихий был еретиком и был справедливо осужден Флавианом Константинопольским в 448 году. Они также согласились на том, что Диоскор напрасно реабилитировал Евтихия в Ефесе в 449 году158.
Таким образом, недавние богословские собеседования не принесли ничего нового в этой области, разве что странную мысль о том, что достаточно не исповедовать одно из еретических учений, чтобы быть признанным православным.
1. Осуждение Севира на Соборах
Еретичность севирианской христологии никогда не вызывала сомнения у Православной Церкви, которая ее официально осуждала с самого ее появления и до настоящих дней.
Первоначально Севир был осужден как еретик Константинопольским синодом в 536 году159. При этом данный синод нисколько не является второстепенным, как бы находящимся в тени V Вселенского Собора (Второго Константинопольского, 553 года). На последнем вовсе не прозвучало эксплицитного осуждения Севира. Упомянутый синод должен быть, наоборот, включен в единое целое с этим Собором, должен рассматриваться как его полноценная часть160 и почти что может быть назван вселенским собором161.
Латеранский Собор (649 год), в котором участвовал (наряду с другими находящимися в изгнании греческими монахами) святой Максим Исповедник, который приравнивал его к Вселенским Соборам (на то время все восточные патриархаты впали в монофелитскую ересь), провозглашает: «Если кто не отвергает и, в согласии со Святыми Отцами, с нами и с верой, не анафематствует душой и устами всех тех, кого святая, кафолическая и апостольская Божия Церковь (то есть пять Вселенских Соборов и все единодушные им признанные Отцы Церкви) отвергла и анафематствовала вместе с их писаниями, до самой последней строки, как нечестивых еретиков, а именно – Савелия, Ария, Евномия, Македония, Полемона, Евтихия, Диоскора, Тимофея Элура, Севира, Феодосия, Коллуфа, Фемистия, Павла Самосатского, Диодора, Феодора, Нестория, Феодула Персянина, Оригена, Дидима, Евагрия и всех остальных еретиков вместе взятых […]. Так вот, если кто не отвергает и не анафематствует нечестивое учение их ереси и то, что было нечестиво написано кем бы то ни было в их пользу или в их защиту, равно как и самих упомянутых еретиков, то есть Феодора, Кира, Пирра и Павла […] или если кто считает, что кто-либо из ими или их единомышленниками осужденных или лишенных сана по той причине, что он не думает, как они, но исповедует с нами учение Святых Отцов, действительно осужден или лишен сана, и если, наоборот, на такого не смотрит […] как на благочестивого и православного борца кафолической Церкви, и при этом не считает таковыми [осужденными. – Прим. пер.] именно тех нечестивцев, а их несправедливые решения по этому поводу и их суждения – пустыми и недействительными, и более того – нечестивыми, ненавистными и осужденными: таковому человеку да будет анафема»162.
VI Вселенский Собор (III Константинопольский, 680–681 годов) осуждает «ересь одной воли и одного действия в двух естествах одного от Святыя Троицы, Христа, истинного Бога нашего, согласную с безумным замышлением нечестивых Аполлинария, Севира и Фемистия, старающуюся посредством какой-то коварной выдумки уничтожить полноту вочеловечения того же самого единого Господа Иисуса Христа, Бога нашего»163.
VII Вселенский Собор (II Никейский, 787 года) в совершенно другом контексте повторяет это осуждение и провозглашает: «Мы исповедуем два естества в воплотившемся ради нас от непорочной Богородицы и Приснодевы Марии, признавая Его и совершенным Богом, и совершенным человеком, как провозгласил это Собор, бывший в Халкидоне, изгнавший из божественного притвора богохульников Евтихия и Диоскора. К ним же сопричисляем Севира, Петра и все их скопище, соединившееся между собою и изрыгавшее много богохульств»164.
2. Осуждение Севира Антиохийского в Синодике в Неделю Торжества Православия165
Севир Антиохийский торжественно анафематствуется в Синодике в Неделю Торжества Православия, который является сборником большинства анафем, провозглашенных на Соборах. Начиная с XIV века, этот текст торжественно прочитывается ежегодно во всех православных храмах в первую Неделю Великого поста. Таким образом, это осуждение Севира принадлежит действительному, живому догматическому сознанию Церкви. Вот текст Синодика: «Арию, первому богоборцу и основателю ересей, анафема. Безумному Петру Гнафевсу, сказавшему: “Святый Бессмертный, распныйся за ны”, анафема. Несторию, проклятому от Бога, который сказал, что Святая Троица пострадала, и неразумному нечестивому Валентину, анафема. Павлу Самосатскому и его товарищу по секте и мыслям Феодоту, и другому неразумному Несторию, анафема. Еретику Петру Гнафевсу, прозванному Ликопетросом [Lykopétros, волчий камень. – Ред.], неразумным Евтихию и Савелию, анафема. Иакову Stanstalos Армянину, Патриарху Александрийскому Диоскору с нечестивым Севиром, а также с единомышленными им Сергием, Павлом и Пирром, с Сергием учеником Ликопетроса – анафема. Всем евтихианам, монофелитам, яковитам166 и артзивуритам, одним словом, всем еретикам – анафема»167.
3. Осуждение Севира в богослужебных текстах
Севир (а также Диоскор) осуждаются как еретики и в различных богослужебных текстах168, в частности – в песнопениях вечерни и утрени Недели Отцов первых шести Вселенских Соборов, ежегодно отмечаемой Православной Церковью между 13-м и 19-м июля (В Неделю, ближайшую к 16 июля. – Ред.). Процитируем некоторые их них. «Апⷭ҇льскихъ преда́нїй извѣ́стнїи храни́телїе бы́сте, ст҃і́и ѻ҆тцы̀: [...] арїево [бо] хꙋле́нїе собо́рнѣ низложи́сте: съ ни́мже и҆ македо́нїа дꙋхобо́рца ѡ҆бличивше, ѡ҆сꙋди́сте несто́рїа, є҆ѵтѵ́хїа и҆ дїоско́ра, саве́ллїа же и҆ севи́ра безгла́внаго». «Число̀ шестьсѡ́тъ тридесѧ́тое благочести́вѣйшихъ мꙋже́й [Отцов Халкидонского Собора], є҆ѵтѵ́ховꙋ пре́лесть, и҆ севи́рову єресь низло́жше, достиго́ша воспѣ́ти си́це: хрⷭ҇та̀ во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ проповѣ́дꙋемъ, ше́ствꙋюще рече́нїємъ кѷрі́лла блаже́ннагѡ». «Прїидите, севи́ра и҆ і҆а́кѡва [Барадеꙗ] неблагополꙋ́чныхъ пре́лесть, съ си́ми ѳеодо́сіа, дїоско́ра ѿме́щемъ ꙗвѣ, четве́ртый же собо́ръ благочести́выхъ ѻ҆тє́цъ воспое́мъ пѣ́сньми бжⷭ҇твенными». «Въ халкидѡ́нѣ собо́ръ четве́ртый, дїоско́ра, є҆ѵтѵ́ха же и҆ севи́ра, лю́тыхъ низложѝ, до конца̀ ѿсѣчѐ терно́внꙋю ихъ пре́лесть, слїѧ́тельнꙋю сꙋще́ствъ сп҃совыхъ, ѿ цр҃кве хрⷭ҇та̀ и҆ влⷣки: съ не́юже правосла́вѧщїи возненави́димъ си́хъ». Те же богослужебные тексты многократно утверждают верность Халкидонского Собора мысли святого Кирилла и неверность ей Севира. Мы уже привели тому пример. Вот еще один: «Кѷрі́ллъ хрⷭ҇та̀ проповѣ́дꙋетъ во двою̀ єстєствꙋ̀, и҆ дѣ́йствїихъ сꙋгꙋ́быхъ. севи́ра несмы́сленнагѡ єресь [как бы предварꙗꙗ] ѿсѣца́ѧ: тѣ́мже всѝ во ѹ҆че́нїихъ тогѡ̀ пребꙋ́демъ»169.
4. Осуждение Севира Антиохийского Отцами Церкви
a. Значимость и значение осуждения, произнесенного Святыми Отцами
Суждения Отцов Церкви достаточно далеки по времени от событий, последовавших за Халкидонским Собором, а значит, вписываются в достаточно долгую временную перспективу по отношению к политическим, психологическим или общественным обстоятельствам после соборной эпохи, чтобы их можно было объяснить одними этими обстоятельствами.
Сторонники унионального проекта утверждают, что Севир был осужден не по причине своей ереси, но потому что отверг Халкидон – то есть по каноническим причинам170. Однако этот аргумент несостоятелен: во-первых, нельзя развести отвержение Халкидона и отвержение его догматического содержания, ибо, конечно же, последнее определило первое; во-вторых, сама формулировка приведенных нами текстов осуждений и то, что имя Севира соседствует в них с именами известных еретиков, показывает, что эти приговоры были вынесены не поформальным причинам, относящимся к области канонов или церковной дисциплины, а именно по причинам собственно догматическим. Подчеркнем, что Севир стоит в списке еретиков наравне с наибольшими из них, без каких-либо оговорок.
То, что Севир был осужден именно по догматическим причинам, подтверждается тем, что его христология находит подробное и глубокое опровержение у некоторых Отцов, обладающих высочайшим авторитетом в Православной Церкви, – в частности, у святого Иустиниана, святого Максима Исповедника, святого Иоанна Дамаскина. К ним мы могли бы присовокупить еще определенное число Отцов, которые подчеркивали еретичность воззрений Севира (в том числе – святого Савву, святого Феодосия – общих житий начальника, святого Анастасия Синаита, святого Иоанна Мосха, святого Софрония Иерусалимского, святого Германа Константинопольского, святого Никифора Константинопольского, святого Фотия…).
Печально, что воззрения Отцов Церкви, отвергающих нехалкидонскую христологию, никак не были учтены теми, кто подписал или кто поддерживает униональный проект. Можно, конечно, предположить, что все дело в составе тех экспертов, которые участвовали в собеседованиях с православной стороны (в частности, была высказана мысль о том, что, если бы эти «эксперты» были настоящими патрологами, их заключения были бы радикально иными171). Однако речь скорее идет о намеренном упущении, ведь единодушное учение Отцов Церкви безусловно несовместимо с нехалкидонской христологией, их воззрения никак не вписываются в нынешнее русло унионального проекта.
Такое небрежение к святоотеческому наследию (и предпочтение ему мнений патрологов и историков, в большинстве своем инославных) представляется особенно неприемлемым. Оно выделяется на фоне безусловного признания авторитета Отцов в Православной Церкви, воззрения на них, как на основополагающие элементы Предания, как на безусловное мерило в вопросах веры. В первые века, напоминает Я. Пеликан, исповедовать православную веру означало утверждать то, «чему нас научили Отцы; […] следовательно, в любом богословском диалоге надо было в первую очередь “выдвигать голос Отцов, как доказательство веры Церкви”172. […] Почти каждый собеседник в почти любом собеседовании мог сказать, вслед за Феодором Студитом: “Чтобы я поверил тому, что было сказано, нужно бы еще свидетельство Отцов”173. […] Постоянным свойством восточной мысли была непреложная верность Отцам. […] Прошлые и настоящие ереси находили свое опровержение в том, что они не опирались либо на Библию, либо на Отцов; православное же учение было “согласно с Преданием, будь то исходящим от Священного Писания или от святоотеческого учения”174. Святой Максим восклицал в адрес [своих] противников “Пусть они это сначала докажут на основании Отцов! Если же это будет невозможно, пусть они оставят свои мнения и присоединятся к нам в нашем стремлении следовать тому, что было определено божественно вдохновленными Отцами кафолической Церкви и пятью святыми Вселенскими Соборами”175. Следовать православному учению кафолической Церкви означало держаться того, что было передано Отцами Церкви в Предании. […] Призыв: “будем благочестиво хранить веру Отцов” – предполагает, поскольку слово “вера” употребляется в единственном числе, а слово “Отцы” – во множественном, что существовал легко определяемый консенсус Отцов по поводу учений, рассмотренных Отцами в прошлых спорах, или же по поводу тех, обсуждение которых еще не состоялось, но – в некоторых случаях – ожидалось в самое близкое время. […] В принципе все признавали, что “Святые Отцы велиим гласом […] все и везде твердо православно исповедовали”176 догматы о Святой Троице и о Богочеловеке»177.
b. Осуждение Севира Антиохийского в житиях святых
1. Одним из самых твердых противников христологии Севира Антиохийского, определивший его как еретика, является его современник, имеющий огромный авторитет в Православной Церкви, – палестинский игумен святой Савва Освященный (439–532), основатель одноименного монастыря близ Иерусалима, существующего и по сей день. Автор его жития, святой Кирилл Скифопольский (который и сам был ярым противником севирианского монофизитства), сообщает, без всякого сочувствия к Севиру, что святой Савва говорил и писал против последнего. В том числе он писал о нем: «Из любви к церковным возмущениям он выдумал много новых мнений, противных православным церковным догматам и определениям. Он принимал нечестивейший второй Ефесский собор [449 года] и почитал его равным Первому Собору [431 года]. Среди учителей Церкви признавал равными между собой Кирилла, богоносного епископа Александрийского, и Диоскора, который низложил с престола и умертвил святейшего и православнейшего Флавиана, архиепископа Константинопольского, и который принял в общение с собой еретика Евтихия, как единомысленного себе. Преуспевая в нечестии, Севир изощрил язык свой в богохульстве и своим учением пытался разделить единое и нераздельное в Троице Божество. Он говорил, что в Боге Лицо есть естество и естество есть Лицо, и, таким образом, не полагая никакого различия в этих именах, Святую, Поклоняемую и Единосущную Троицу Божественных Лиц осмелился называть Троицей естеств, божеств178 и богов»179.
После навязанной замены Флавиана Севиром на Антиохийском патриаршем престоле (512 г.) святой Савва противостал новому патриарху и с помощью всех игуменов и монахов Палестинской пустыни направил императору Анастасию послание, центральная часть которого звучит следующим образом: «Ясно, что новое учение, исправляющее прежнюю Христову веру, есть учение не истинного Христа, но антихриста, который старается уничтожить единение и мир Божиих Церквей и который уже все наполнил смятениями и беспорядками. Но виновник и зачинщик всего есть Севир, который давно уже сделался акефалом180 и отступником от правоверия [aposchiste181]. Он, по попущению Божию, за наши грехи поставлен во архиерея Антиохийской Церкви, к погибели своей души и всего антиохийского города. Он проклял наших святых отцов, которые по всем пунктам утвердили апостольскую веру, определенную и переданную нам святыми отцами, собравшимися в Никее, и ею всех просвещают. Избегая общения и единения с этим акефалом и совершенно отвергаясь его, мы умоляем Ваше благочестие помиловать Сион [Иерусалим], Матерь всех Церквей, которая служит защитой Вашей благочестивой власти, но которая, тем не менее, так бесчестно оскорбляется и опустошается»182.
2. Житие святого Феодосия, общих житий начальника, составленное святым Феодором Петрским183, содержит в себе учение, аналогичное с тем, которое мы находим в житии святого Саввы. Между прочим, святые Феодор и Савва были современниками, причем были очень близки и в борьбе с распространением севирианской ереси в Палестине действовали единодушно. В житии святого Феодосия воспроизводится послание палестинских монахов императору Анастасию, приведенное в житии святого Саввы и цитированное нами выше. Отправителем послания от лица всей братии здесь называется именно святой Феодосий184. Дальнейший текст представляет собой апологию Халкидонского Собора от лица святого, в которой он, в частности, утверждает, что исповедание Христа как истинного Бога и истинного человека предполагает исповедание двух Его природ: «Если Христос является подлинно, а не только кажущимся образом, Богом и человеком, то, конечно же, Один и Тот же стал Богом и человеком по природе Божества и природе человечества: всякий разумный человек согласится с тем, что “быть подлинно” означает – быть по природе»185. Святой Феодосий затем подчеркивает, что Халкидонский Собор «отвергает разделение Нестория, а, кроме того, отметает и еще более нечестивое слияние Евтихия и Диоскора. Ибо он не разделяет Христа на две ипостаси и два сына, как то делал Несторий, и не сливает в единую природу божество и человечество Одного и Того же Христа, как то делали Евтихий, Диоскор, а вслед за ними и Севир. Действительно, каждый из этих ересиархов впал в ересь, стремясь в большей, чем то следовало, степени избежать разделения или слияния». Описав ошибку Нестория, святой Феодосий замечает: «Со своей стороны, Евтихий и Диоскор, а также безусловно Севир, недавно ставший защитником их нечестивого учения, желая избежать бессмысленного несториева разделения, изгоняют одно зло другим, ибо они увязли в болоте слияния. Ибо они помыслили, что природы Господа, которые без изменения или слияния были сведены в одну ипостась, являются настолько соединенными, что они посмели сказать, что из Божества и человечества Христа произошла единая природа. По общему мнению, они таким образом вводят изменение и умаление природ после соединения, хотя они это не признают и отрицают, если судить о том с их слов»186. Затем святой Феодосий развивает богословские аргументы, которых нет у святого Саввы, свидетельствующие о его ясном понимании не только духа Халкидонского Собора, но и всей святоотеческой традиции, на которой он строит свои рассуждения и из которой он черпает несколько примеров187.
3. Обвинения Севира в ереси мы находим еще в одном агиографическом источнике – Луге Духовном святого Иоанна Мосха. Монофизитский учитель здесь многократно упоминается в контексте повествований о чудесах, в которых сверхъестественное вмешательство извещает или свидетельствует о еретичности его учения. Речь идет о главах 26, 29, 30, 36, 48, 49, 79, 106, 213. Поскольку этот источник легко доступен, а у нас здесь не хватит места для цитирования этих длинных глав, мы отсылаем нашего читателя к его тексту188.
с. Критика севирианской христологии и «умеренного» монофизитства у святого Иустиниана
Святой император Иустиниан очень интересовался богословскими вопросами (говорят, что он предпочитал беседы на эту тему с епископами или монахами любому другому занятию). В настоящее время уже никто не отрицает его компетентности и его значения как великого богослова – какова бы ни была помощь, полученная им от его ближайших советников (в частности, Леонтия Византийского и Леонтия Иерусалимского).
Один из его богословских трактатов посвящен критике монофизитства: К александрийским монахам, против монофизитов189. Следует подчеркнуть, что Иустиниан стремился не просто к отрицательной критике, но к тому, чтобы убедить монофизитов принять православие. Действительно, несмотря на свою твердость против монофизитской (равно как и несторианской) точки зрения, предметом его непрестанной заботы было объединение разделенных христиан: он употребил всевозможные усилия, чтобы православные и нехалкидониты смогли встретиться, провести собеседования, достичь согласия.
Прежде всего нет сомнений в том, что он считает Севира еретиком. Он рассматривает его как представителя монофизитского направления и как дальнего последователя Аполлинария190. При этом он вполне осознает, что отделяет Севира от Аполлинария, с одной стороны, и от Евтихия – с другой. Так называемые «умеренные монофизиты», которых он ясно отличает, когда нужно, от крайних монофизитов191, многократно определяются им как люди, «имеющие ложное мнение»192, «противящиеся учению Отцов»193, как «враги Церкви»194, как «нечестивые новаторы»195, одним словом – как «еретики»196.
В начале своего трактата Против монофизитов Иустиниан излагает догмат о Святой Троице197. Он показывает, что между Святой Троицей и Христом существует очевидная связь, раз Христос – Один из Святой Троицы, и что существует очевидная аналогия между триадологией и христологией: Святая Троица есть три Лица и одна природа; наоборот – Христос есть одно Лицо и две природы. Иустиниан никак не может понять, почему же Севир, его предшественники и последователи-антихалкидониты упорствуют в своей сбивчивой терминологии, в то время как православная триадология давно уже выработана и позволила уточнить эти понятия (природа, ипостась), которые не только признаны всеми и доказали свою адекватность, но к тому же могут быть перенесены и в область христологии.
Затем, вновь в связи с триадологией, Иустиниан показывает, что понятие «сложной природы», или «сложной ипостаси», так как это понимает Севир, приводит к тому, что в Троицу вводится четвертая ипостась, поскольку упомянутая природа, или ипостась, не может отождествляться с вечной и неизменяемой Ипостасью Слова.
Святой Иустиниан подчеркивает, что выражение «Христос – в двух природах» вовсе не вносит разделения и что существование двух природ во Христе подтверждается самим святым Кириллом, имплицитно или эксплицитно, во многих его текстах198. А до него это было подтверждено и святым Афанасием199. Поэтому монофизиты напрасно ссылаются на авторитет святого Кирилла и на происхождение от него: их учение противоречит его учению как по этому вопросу, так и по тому, какое значение следует придавать выражению «единая природа Бога Слова воплотившаяся», которое монофизиты (севириане в том числе) понимают в ином смысле, нежели святой Кирилл200.
Он подчеркивает противоречие и непоследовательность аналогии, которую севириане проводят между мнимой единой природой Воплощенного Слова, составленной из божества и человечества, и человеческой природой, составленной из души и тела (позднее это же будет подчеркнуто святым Максимом)201.
Он показывает, что то, как севириане (а до них – Диоскор и Тимофей Элур) понимают единую сложную природу Слова, явно восходит к аполлинарианству202.
Иустиниан указывает, что хотя Севир апеллирует к авторитету Отцов и особенно Кирилла, на самом деле он отметает все, что ему не подходит в их учении. Более того, как пространно доказывает святой Иустиниан на основании многочисленных цитат, христология Севира противоречит не только христологии Отцов Халкидона, но и дохалкидонских Отцов, таких, как святой Кирилл Александрийский, святой Афанасий Александрийский, святой Григорий Великий, святой Василий Великий, святой Григорий Нисский, святой Амвросий Медиоланский203. Итак, утверждение сторонников Севира о том, что его учение соответствует христологической вере Халкидона, рушится, равно как и легитимность прилагательного «дохалкидонит», примененного в положительном смысле к Севиру его единомышленниками.
d. Критика севирианского богословия у святого Максима Исповедника
Вероятно, наиболее детальная и глубокая критика умеренного монофизитства вообще и Севира Антиохийского в частности прозвучала из уст святого Максима Исповедника, который адресовал ее к монофизитству как самостоятельному учению и как основанию моноэнергизма и монофелитства.
Этой критике посвящено множество его трудов, в частности послания 12–17 и догматико-полемические сочинения (Opuscula theologica et polemica) 5, 7, 8, 13, 22, 23.
При чтении творений Максима мы видим, что он очень жестко отзывается о Севире и критикует его столь же строго, сколь он критикует Аполлинария и Евтихия, с одной стороны, и Нестория – с другой204. Он нисколько не сомневается в том, что Севир – еретик205. Этого «нечестивца» (а у Отцов этот термин обычно относится к еретикам) он ставит в один ряд с Аполлинарием и Евтихием206. При этом он вполне осознает, в чем Севир от них отличается: святой Максим считает, что он является продолжателем их мысли207. В какой-то мере он возводит его богословие и к Манесу208. Наконец, он проводит параллель между Севиром и Несторием, показывая, что они являются авторами противоположных и симметричных заблуждений209.
Хотя мы находим у него некоторые полемические перегибы, Максим прекрасно понимает богословие Севира: он не ограничен одним лишь книжным знанием этого богословия, поскольку встречался с ним и напрямую, вживую – в ходе бесед с севирианскими епископами во время своего пребывания на Крите. Поэтому он с большой проницательностью распознает и выявляет его внутренние противоречия и непоследовательность.
Мы не можем здесь подробно изложить максимовскую критику севирианской христологии210 и ограничимся лишь ее основными положениями.
Природ две, а не одна
Согласно святому Максиму, о двух природах следует говорить без колебаний (в отличие от севириан): это число можно применять к природам без всяких оговорок. Боязнь севириан, что будто употребление этого числа рассекает (разделяет) Христа, не оправдана: опираясь на святого Григория Богослова, святой Максим многократно показывает, что число являет количество предметов, а не их разделение, что оно указывает на различие, а не на разлучение того, что оно исчисляет, что оно не может вносить разделения в предметы, что оно не имеет этого свойства, ибо не связано с отношениями между предметами. Предметы и отношения между ними определяются прежде всякого исчисления и остаются неизменными после него.
Более того, употребление числа необходимо, ибо без него нельзя ни утверждать различие, ни показывать его. Невозможно, не будучи непоследовательным, отрицать, что после соединения природ – две, и одновременно утверждать различие природ после соединения. Именно так поступают севириане. Отрицание двойственности природ после соединения равнозначно их уничтожению. Итак, необходимо подчеркнуть, что, после соединения, Христос не один по любому логосу и модусу (τρόπος): Он – два с точки зрения природ (вопреки Аполлинарию и Севиру) и один с точки зрения ипостаси (вопреки Несторию). Когда мы говорим, что Христос – два после соединения, то, с одной стороны, мы признаем, что после соединения Он – Бог и человек, а с другой, что Его сохранившиеся природы различаются не мысленно (κατ’ ἐπίνοιαν) и не лишь по своему качеству (μόνῃ ποιότητι), как то излагают севириане, но в действительности, фактически211.
Формула о «двух природах», при том, что была провозглашена Халкидонским Собором, вовсе не является новшеством Отцов этого Собора, но еще до того признавалась и исповедовалась многочисленными Отцами212.
Умаление или отрицание реальности человечества во Христе
Максим особенно подчеркивает, что севирианское богословие, хотя не растворяет человечество во Христе (в отличие от христологии Аполлинария или Евтихия), тем не менее приводит к тому, что это человечество лишается всякой реальности213: во-первых, потому что Севир не признает за человеческой природой Христа реального существования, во-вторых, потому что он отказывается признавать за ней ее силы (или свойства, в том числе – волю) и энергии.
Кроме того, Максим показывает, что утверждение севирианами различия «по природным качествам», «по свойствам», но без различения природ – непоследовательно и ставит под сомнение реальность человечества Христа: при таком утверждении его существование умаляется и даже исключается, поскольку именно природа предполагает существование и реальность тех свойств и качеств, которые к ней относятся214. Максим особенно развивает этот пункт в догматико-полемическом сочинении 21. Здесь он показывает, что, поскольку Севир считает, что во Христе сложная природа, он самим отрицанием различия упраздняет природы, а значит, и относящиеся к ним качества, что сводится, таким образом, к отрицанию бытия Христа. Раз Севир утверждает, что следует Кириллу в исповедании различия, то он не может ограничивать это различие и относить его к одним лишь качествам: по всей логике он должен относить его и к самим природам – именно так, как это делает Кирилл, который отвергает лишь разделение природ. Действительно, когда Кирилл утверждает, что «по естественному качеству плоть отличается от Слова», он имеет в виду – по существу и по действию. А Севир, когда говорит о различии качеств во Христе и при этом не связывает эти качества с природами (различие между которыми упразднено, по его мнению, в единой сложной природе), приходит к отрицанию самих этих качеств (ибо «конечно же всякое качество не имеет существования вне подразумеваемой под ним природы»), а следовательно – и к отрицанию самого существования Христа. Поскольку качества неотделимы от сущности (или природы), к которой они относятся, Севир, признавая раздельность качеств, должен по всей логике признавать и раздельность природ. И, наоборот, если он признает единство природы, то, по всей логике, он должен признавать и единство качеств и говорить об одном сложном качестве, наподобие того, как он говорит о единой сложной природе, утверждая, таким образом, смешение тех и других. Если он исповедует различие качеств, то по справедливости должен был бы исповедовать и различие природ; если он признает, что качества могут быть соединены, сохраняя при этом свое различие, но не разделяясь, то он должен признать такую возможность и за природами; ибо не может быть различия тех, но не других215.
Православное значение выражения святого Кирилла: «единая природа Бога Слова воплощенная»
Максим, будучи тонким богословом, не дает себя обмануть внешним сходством. Он показывает, что те язык и формулировки, которые Севир позаимствовал у Кирилла Александрийского, несут у последнего другую смысловую нагрузку и не приводят к той путанице, которую мы находим у его самозваного ученика. Максим опирается на великолепное знание творений Кирилла. Благодаря этому он вводит те или иные формулировки в их контекст, показывая, каким образом они дополняются или освещаются другими текстами великого Александрийца. Святой Максим без устали проводит тонкую экзегезу его мысли, которая позволяет ему не только показать ее православие в глазах несторианствующих дифизитов, но и обличить ее ошибочное истолкование Севиром и его учениками, которые ссылаются на нее, как на свое основание216.
Все это, в частности, относится к формуле «единая природа Бога Слова воплощенная». Максим показывает, что у Кирилла эта формула имеет православное значение, а Севир дает ей обратное толкование – в том же духе, что его монофизитские предшественники217.
Максим показывает, что святой Кирилл употребляет эту формулу только с целью полемики против несториан, которые отказываются исповедовать соединение природ. Когда святой Кирилл пишет: «Мы объединяем во Христе, Сыне, Господе единую природу Слова воплощенную», сам контекст ясно указывает, что выражение «единая природа» указывает на ипостась. В отличие от монофизитов всех мастей, святой Кирилл никогда не отвергал употребления языка двух природ после соединения и не учил о том, что различие упразднено соединением. Мы говорим о двух природах, чтобы показать различие между соединенными природами, и таким же образом мы исповедуем «единую природу Бога Слова воплощенную», чтобы показать ипостасное соединение. Ни то, ни другое выражение не исключает другого. Каждая из этих формул, применяемая отдельно от другой, выражает сомнение: одна – против Нестория, отрицающего ипостасное соединение, другая – против Аполлинария, Евтихия и Севира, отрицающих (по-разному и с разной силой) различие природ после соединения. Таким образом, обе формулы дополняют друг друга. Кроме того, в формуле, употребленной святым Кириллом, «воплощенная» предваряет указание на нашу сущность, так что формула указывает одновременно на обе природы: «воплощенная» ссылается на человечество, а «единая природа Слова» – на «[Его божественную] природу, которой Он обладает [совместно с Отцом и Духом Святым, и на Его] собственную ипостась» (Мысль прп. Максима уточнена автором специально для русского перевода. – Ред.). На самом деле «один» и «два» относятся ко Христу, но по-разному: «один» относится к Его ипостаси, а «два» к Его природам. Ипостасное соединение природ не влечет за собой их слияния, а различие по природам не предполагает их разделения218.
Христос – не сложная природа
Максим особенно ясно показывает, какие затруднения влечет за собой применение севирианского понятия «единая сложная природа» ко Христу – сам Севир не вполне осознавал эти затруднения219.
Во-первых, составные части сложной природы современны друг другу и современны всему тому, что они составляют: ни одна из них не предваряет другой. Во-вторых, обе эти части взаимно предполагают друг друга. В-третьих, в сложной природе соединение частей происходит не в силу свободного выбора, но в силу физической необходимости, связанной с тем, что они дополняют друг друга. Соединение происходит не через восприятие одного элемента другим, но сочетанием в рамках одного рода (или вида).
Именно это и происходит с человеческой природой (составленной из души и тела). Но нельзя переносить эту модель на сложную природу Христа, как это делают севириане. Во-первых, обе Его природы созданы неодновременно, ибо Его нетварное Божество существует прежде Воплощения, превечно. Во-вторых, эти природы не предполагают и не дополняют друг друга, ибо сверхъестественное несоразмерно естественному. В-третьих, соединение в ипостаси Слова человеческой и божественной природ является следствием не необходимости, а свободного произволения: Бог Слово соединился с плотью неизреченно, по восприятию – не по присущему составным частям закону, а превосходя закон составных частей. Он стал Человеком по своему свободному произволению, совету и любви к роду человеческому. Он «сосложился с нами и воплотился от нас» по икономии, а не по закону природы.
Святой Максим предлагает еще один аргумент против понятия сложной природы. Если Христос является сложной природой, то она либо принадлежит виду, либо обособлена. В первом случае она принадлежит множеству особей, составляющих вид; в таком случае существует множество христов, которых нельзя отождествить ни с Богом, ни с людьми. Если же речь идет о единственной особи, вроде Феникса (если предположить, что такая природа может существовать), то Христос не единосущен ни Своему Отцу, ни Своей Матери, ни Богу, ни людям, что также неприемлемо.
По всем этим причинам святой Максим отвергает мысль о соединении природ в единой сложной природе и исповедует, что это соединение совершается в единой сложной ипостаси (ὑπόστασις σύνθετος)220, исключая, естественно, и несторианское учение о двойственности ипостасей. При этом он лишний раз подчеркивает параллелизм между Несторием и Севиром221.
Непоследовательности, связанные с уравнением «природы» и «ипостаси» у Севира
Кое-кто пытается защитить точку зрения Севира, ссылаясь на то, что он употребляет понятия природа и ипостась как синонимы.
Как и Иустиниан, Максим полностью осознает существование этой синонимии в севирианской мысли222 и вместе с императором-богословом видит в ней источник неразрешимой и неприемлемой богословской путаницы223, в частности потому, что Севир неизбежно приходит к смешению того, что является собственным свойством той и/или другой природы, и того, что является свойством единой Ипостаси.
Одной из наиболее ярких и парадоксальных нестыковок является то, что эта синонимия приводит равным образом к соединению-слиянию аполлинаристского типа и к различению-разделению несторианского типа. Ведь признание во Христе после соединения различения «по природным свойствам» предполагает и утверждение в Нем ипостасной двойственности. Отвергая же такую ипостасную двойственность (признать ее означало бы присоединиться к несторианству) и, следовательно, утверждая единство ипостаси, Севир, признающий синонимичность ипостаси и природы, приходит к слиянию природ и, таким образом, к учению Аполлинария224.
е. Критика севирианского богословия у святого Иоанна Дамаскина
Сторонники унионального проекта пытаются доказать, что святой Иоанн Дамаскин не только терпимо относился к севирианскому богословию и не считал его еретическим, но даже признавал его православным. В частности, митрополит Дамаскин (чье незнание Отцов Церкви как будто исчезает, лишь только ему представляется, что он находит у них подтверждение своих тезисов) пишет: «Осознание единства веры [между православными и нехалкидонитами] было выражено еще в VIII веке великим богословом Иоанном Дамаскиным, который прекрасно знал веру и богословие древних Восточных Церквей и не колеблясь провозглашал их православными. В частности, он ясно подчеркивает общее церковное сознание, согласно которому “Египтяне (копты), хотя отделились от Церкви под предлогом Халкидонского определения”, на самом деле рассматриваются и являются “православными во всем остальном” (PG 94, 741)»225. То есть святому Иоанну Дамаскину приписывается здесь та мысль, будто нехалкидониты православны во всем, и что единственное, в чем их можно упрекнуть, это отделение себя от Церкви по причине непризнания ими Халкидона (то есть будто они являются раскольниками, а не еретиками). На самом деле святой Иоанн Дамаскин, в главе 83 своей книги О ста ересях пишет вот что: «Египтяне, они же схизматики и монофизиты. – Под предлогом халкидонского определения они отделились от православной церкви. Египтянами названы потому, что египтяне первые начали этот вид ереси при царях Маркиане и Валентиниане. Во всем остальном они православные. Из привязанности к Диоскору Александрийскому, который был осужден Халкидонским Собором как защитник учений Евтихия, они противостали Собору и составили тысячи порицаний против него, которые мы выше в этой книге достаточно опровергли, показав их невежественными и суемудрыми. Их вожди: Феодосий александриец, от которого феодосиане, Иаков сириец, от которого – яковиты. Их сообщники, поручители и защитники: Севир, развратитель антиохийцев, и тщетно трудившийся Иоанн троебожник, отвергающие тайну общего спасения. Они много написали против халкидонского боговдохновенного учения шестисот тридцати отцов и много расставили соблазнов погибающим, ведущих по их губительной стезе. А также, выставляя догмат о частных сущностях (μερικὰς οὐσίας), они вносят смуту в тайну домостроительства. Мы сочли, что должно вкратце рассмотреть их ересь, вставляя небольшие замечания для изобличения их безбожной и прескверной ереси»226.
Из данных слов очевидно, что мнение святого Иоанна Дамаскина о нехалкидонитах совершенно однозначно и что у митрополита Дамаскина довольно странный подход к пониманию и изложению текстов своего небесного покровителя227. Слова святого Иоанна Дамаскина в начале процитированного текста означают, что монофизиты Египта и Сирии православны во всем, кроме одного – немаловажного – пункта: отвержения ими христологического исповедания Халкидона. К слову, отец Иоанн Мейендорф понимал этот текст именно в таком смысле: «Вполне осознавая “кирилловскую” интерпретацию Халкидона, определенную в 553 году, Иоанн [Дамаскин] посвящает, однако, значительную часть своего богословского творчества полемике против севирианских монофизитов. Признавая, что они “православны” во всем, кроме своего противостояния Халкидону, он не признает никакой разницы между монофизитством Евтихия и христологией Диоскора и Севира: то, что последние отвергают Халкидон, является для него, по-видимому, достаточным признаком, чтобы утверждать их принадлежность евтихианству»228. Эта интерпретация (в которой под обвинение подпадает их отрицание веры, провозглашенной Халкидоном) совпадает с мнением других патрологов229 и широко подтверждается не только самим контекстом процитированной главы, но и многочисленными текстами из других творений святого Иоанна Дамаскина, в которых он прилагает усилия к опровержению христологии нехалкидонитов, которых безусловно рассматривает как еретиков, как ответвление от монофизитства. В третьей главе третьей книги его самого известного творения Точное изложение православной веры230 содержится критика положений монофизитства, причем не только евтихианского, но и севирианского. В начале этого текста можно ясно идентифицировать критикуемые им севирианские формулы (в частности, «единую природу», понимаемую в монофизитском смысле, и «одну сложную природу»). В дальнейшем Севир называется и по имени: соединение во Христе, пишет святой Иоанн Дамаскин, «произошло из двух совершенных природ, божественной и человеческой, не смешением, или слиянием, или сорастворением, как говорили отверженный Богом Диоскор, и Евтихий, и Севир»231. Согласно святому Иоанну Дамаскину, главной ошибкой еретиков (как монофизитов всех мастей, так и любой разновидности несториан) является смешение (у каждого, правда, по-своему) природы и ипостаси232. Отсюда и путаница, имеющая в каждой из их богословских систем свою специфику233.
В том же трактате, в главах 4–19 той же третьей книги234, изложены христологические рассуждения, очень близкие к рассуждениям святого Максима Исповедника. В значительной своей части они посвящены ниспровержению точки зрения Севира, хотя последний и не называется по имени. Критику богословских положений умеренного монофизитства мы также находим еще в четырех трактатах святого Иоанна Дамаскина: Против яковитов235, О двух волях, энергиях и других природных свойствах во Христе236, Письмо архимандриту Иорданесу, о Трисвятом237, О сложной природе, против акефалов238.
f. Размышления о святоотеческой критике севирианской христологии
Даже если признать справедливым основной тезис Ж. Лебона, защищаемый им на всем протяжении его объемных работ, посвященных сирийскому монофизитству вообще и Севиру Антиохийскому в частности, – тезис, на основании которого он строит все свои рассуждения, а именно: что для богословов, примыкающих к умеренному монофизитству (Тимофей Элур, Филоксен Маббугский, Севир Антиохийский…), термины «природа» и «ипостась» равнозначны, все равно нельзя не признать, что их богословие остается сильно сбивчивым и именно по причине утверждения этой синонимии. Иустиниан, который вполне осознавал наличие этой синонимии в монофизитском богословии239, обличал ее, как источник путаницы и серьезных богословских ошибок. Можно, конечно, упрекнуть Максима Исповедника в том, что его критика севирианства основывается на халкидонской и неохалкидонской точке зрения и терминологии. Однако независимо от этого он ясно показывает внутренние противоречия путаных выражений Севира Антиохийского (который, даже когда употребляет формулы Кирилла Александрийского, не обладает равным ему пониманием и гибкостью в их употреблении) и те догматические ошибки, к которым они приводят.
Большинство специалистов, в том числе и тех, которые благосклонны к Севиру, признают, что его терминология остается в духе аполлинарианской240 и легко может быть истолкована в духе крайнего монофизитства, евтихианства (кстати, это богословское течение всегда было представлено в среде нехалкидонских Церквей241). Максим Исповедник всегда видел в севирианском монофизитстве источник моноэнергизма и монофелитства242. Именно по этой причине он, вступив в борьбу с этими двумя ересями, считал необходимым продолжать борьбу против севирианского монофизитства, которую он вел ранее.
Дело в том, что одна из принципиальных ошибок севирианского монофизитства243, в наибольшей степени выявляющая его еретичность и являющаяся наиболее проблемной даже для сочувствующих244, – это присущее ему учение о единой энергии и единой воле Христа. Действие отождествляется с действующим245, а воля с «произволящим»246, то есть Божественным Словом: в этом – основная путаница, присущая именно моноэнергистам и монофелитам247. По мнению Севира, воля и энергия могут быть только божественными; лишь их проявления (произволимое и действие) могут быть божественными и человеческими248. Нехалкидониты, подписавшие «Согласованные заявления», вроде бы отказались от этой части севирианского богословия, поскольку они ясно исповедуют вместе с православными два действия и две воли. Однако, как нами уже было указано выше, мы не понимаем, как такое признание может обойтись без признания реального дифизитства. И, наоборот, нам непонятно, каким образом принятие этого положения не привело к тому, чтобы под вопрос была поставлена значительная часть севирианского богословия, которое, по мнению специалистов в этой области, в значительной степени основывается на учении о единой энергии249. Таким образом, перед нехалкидонскими богословами здесь поставлена двойная проблема богословского противоречия, которую им необходимо решить. Та двусмысленность, которая все еще остается относительно нынешнего мнения нехалкидонитов по поводу этого ключевого вопроса250, может быть разрешена, если потребовать от них ясного осуждения моноэнергизма и монофелитства как ересей. В ясной форме такого осуждения нет ни в одном из «Согласованных заявлений».
Заметим лишь следующее: учение Севира о единой энергии и единой воле подтверждает уже отмеченное нами выше отсутствие в его христологии равновесия между человечеством и божеством и наличие антропологического минимализма. Как отмечает при исследовании севирианского учения о единой энергии А. Гриллмейер, «ипостасное соединение трактуется Севиром прежде всего в смысле неприкрытой гегемонии Логоса во Христе. Sarx [плоть] является подчиненной частью. “Очевидно, [пишет Севир, что последняя] не сохранила свое свойство без умаления”. Это умаление ее свойства означает в то же время обогащение божеством. […] Истоки такого понимания внутренней богочеловеческой жизни Иисуса мы находим еще в учении аполлинаристов о единой energeia, едином operatio во Христе, источником и корнем которых могла быть только динамика Логоса»251. Равным образом, «нет сомнений в том, что Севир приписывает свойство “я хочу” силе воли божества. [По его мнению], человеческая воля во Христе, конечно же, не нуждается в том, чтобы стать активной. […] Следуя Севиру, в каждом действии Эммануила, то есть воплощенного Логоса, божество участвует в качестве facultas [способности] и в качестве природной причины. […] Дело в том, что Севиру плохо удается распознать подлинное действие человеческой воли во Христе и дать ему должную оценку. […] Исходя из [его] объяснений безусловно справедливым является вывод о том, что Севир не может видеть в человеческой воле непосредственный, или даже самостоятельный, источник определенных действий воплощенного Логоса»252. Эта концепция напрямую влияет на концепцию человеческой свободы во Христе: «относительно человеческих поступков воплощенного Слова: основой свободы выбора также является Логос в Его божестве. Ибо выбор Им осуществляется еще тогда, когда орган человеческого разума еще не способен действовать и решать. Таким образом, когда патриарх полагает свободу выбора и действительное решение в Логосе как таковом, он принципиально ни в чем не пошел дальше Аполлинария в понимании свободы […] Христа»253. Ранее те же замечания были высказаны отцом Г. Флоровским: «Однако для Севира трудность оказывалась непреодолимой ввиду неповоротливости и негибкости “монофизитского” языка. И еще потому, что в своем размышлении он исходил всегда из Божества Слова, а не из Богочеловеческого лика. Формально это был путь Кирилла, но по существу это приводило к мысли о человеческой пассивности (можно даже сказать, не-свободе) Богочеловека. А в этих уклонах мысли сказывалась нечеткость христологического видения. Человеческое во Христе представлялось этим консервативным монофизитам [….] во всяком случае так, что действует оно не свободно, Божественное проявляется не в свободе человеческого»254.
Преподобный Максим Исповедник настойчиво подчеркивал еще одно затруднение в мысли Севира Антиохийского, на которое указывают и нынешние историки. Он рассматривает соединение божества и человечества во Христе по аналогии с соединением человеческой души и тела, по образу естественного соединения255. Здесь выражена «тенденция к принятию представления о естественном симбиозе божества и человечества во Христе»256, причем появляется опасность рассматривать результат этого соединения в качестве третьего элемента257. Халкидонское же понимание ипостасного соединения сочетается с понятием о перихоресисе природ, избегая при этом их смешения.
Одной из простейших путаниц, порожденных синонимией «природы» и «ипостаси», является именно та, которая касается личности Слова, Сына Божия и его божественной природы. Эта путаница проявляется и в некоторых выражениях Ж. Лебона, к примеру: «наши учители относят именование “природа” лишь к божеству Слова, то есть к самому Слову»258. Из этого следует, что когда монофизитские богословы утверждают, что «Слово является сложным», речь идет не только о том, что ипостась Слова сложна, но и о том, что таковой является и сама божественная природа…
Еще одним затруднением, порожденным этой синонимией, является следующее: когда Севир признает, что относительно Христа можно говорить о «двух природах, [различаемых] умозрительно» (δύο φύσεις ἐν θεωρίᾳ), то, следуя его терминологии, это должно означать, что можно говорить о «двух ипостасях (или двух лицах), [различаемых] умозрительно»259. А это, естественно, неприемлемо, ибо даже умозрительно Христос не может быть в двух ипостасях, или двух лицах. Равным образом утверждение о том, что Христос «из двух природ» (ἐκ δύο φύσεων) должно означать, в силу упомянутой синонимии, что Он и «из двух ипостасей»260, что совершенно абсурдно.
На самом деле синонимия между природой и ипостасью вовсе не настолько строго проводится Севиром и его предшественниками, насколько это утверждает Ж. Лебон на протяжении своих исследований. В действительности, во избежание тех абсурдных выводов, которые мы только что выявили, умеренным монофизитским богословам приходится прибегать к игре со словами. Порой они употребляют эти термины в одном значении, порой – в другом, что, конечно же, только добавляет путаницы261. В первом случае, как и во втором, слова «природа» и «ипостась» теряют собственные определенные значения… Отсюда – и прямолинейность севирианского богословия в многократном и упорном применении некоторых кирилловских формул, и часто неуловимый характер его толкований, в котором его сторонники видят характерную черту тонкого богослова, а его противники – свойство богослова несостоятельного.
Если даже предположить, что терминология умеренных монофизитов может быть применена в приемлемом, православном значении (как у Кирилла), то ей все равно следует предпочесть халкидонскую и неохалкидонскую терминологии. Опыт показал, что последняя позволяет избежать любой двусмысленности, любой путаницы, равно как и разрешить любые позднейшие богословские проблемы. Первая же терминология, наоборот, не раз использовалась в различных явных ересях (например – в моноэнергизме и монофелитстве, а позднее – в иконоборчестве)262.
Как бы мы не оценивали богословие Севира Антиохийского, мало кто станет спорить с тем, что оно было настоящим шагом назад с точки зрения богословских разработок VI в. и, в частности, терминологических прояснений, осуществленных православными послехалкидонскими богословами с целью различения человечества и божества во Христе – одного относительно другого, а также относительно Его лица, или ипостаси, которая была ясно определена как субъект. Севир заковал себя в унаследованную от аполлинарианства терминологическую систему, которая была тупиком263.
IX. Статус Диоскора
Еще одной проблемой является статус патриарха Александрийского Диоскора, который на разбойничьем соборе (449 г.) принял в общение Евтихия, а затем возглавил оппозицию Халкидону. Нехалкидонские Церкви почитают его святым, поэтому униональный проект предполагает, что произнесенные на него анафемы будут отменены: авторы проекта стремятся полностью его реабилитировать. Они ссылаются на то, что Диоскор будто бы был анафематствован на основании лишь дисциплинарных причин, в силу его оппозиции Халкидону, а не исходя из причин догматического характера. Такой тезис уже выдвигался некоторыми современными историками и как будто находит формальное оправдание в акте о низложении, составленном по завершении суда над ним в Халкидоне: в этом акте эксплицитно указываются лишь первые упомянутые причины264.
И все же необходимо признать, что как весь Собор в его совокупности, так и отдельные Отцы, осуждая Диоскора, тесно связывают его с Евтихием: они признают первого еретиком именно исходя из этой связи. Конечно, во время Халкидонского Собора Диоскор утверждал, что он не признает евтихианское смешение природ265, однако его активная поддержка Евтихию и принятие его в общение показывают, что он разделял его построения и защищаемые им еретические воззрения266, что он считал себя в единстве веры с ним и что, следовательно, он заслуживал одного с ним осуждения и анафемы.
Во время суда над Диоскором на Халкидонском Соборе на первый план были выдвинуты его многочисленные канонические и дисциплинарные нарушения267, которые и послужили причиной его низложения. Но Диоскор был несколько раз обвинен и в ереси: одно из повлекших его низложение дисциплинарных нарушений состояло в том, что он три раза подряд отказался явиться на вызов Отцов и дать им ответ по поводу своих различных нарушений, в том числе – догматических заблуждений. Со всей уверенностью можно полагать, что если бы он ответил на вызов на суд Отцов Собора и выразил бы перед ними свои догматические воззрения, то был бы формально и эксплицитно осужден в том числе и за них. Так полагает автор сочинения De sectis268: «Они спрашивают: “Почему же вы не принимаете Диоскора, когда причины его низложения не имеют догматического характера?” Мы им отвечаем, что на самом деле он именно потому и ни прибыл на Собор, чтоб его не допрашивали о его воззрениях и не подвергли низложению по догматическим причинам; но если б он прибыл и если б он был допрошен, то его бы низложили как еретика, ибо именно таковым он и был. Но поскольку он не прибыл после трех вызовов и поскольку именно эта причина была положена [Отцами] в основу его низложения, то и говорят269, что он не был низложен по догматическим причинам»270.
Митрополит Дамаскин утверждает, что «Межправославная комиссия, рассмотрев источники того времени и труды Диоскора […] пришла к выводу, что к нему нельзя прилагать унизительное имя еретика-монофизита»271. Исследование трудов Диоскора, вероятно, не потребовало от комиссии больших усилий, поскольку до сего дня не найдено ни одного его труда: единственными следами таковых являются анафемы против Халкидона, сохраненные в монофизитских трактатах других авторов, причем невозможно с достоверностью установить за Диоскором авторство этих анафем272. Еще несколько редких цитат Диоскора приводятся другими писателями, однако следует заметить, что они не свидетельствуют в пользу признания его православным. В качестве примера приведем цитату из послания, направленного им из Гангр в Александрию, которое приводится у Иустиниана: «Не будь кровь Христова по природе своей кровью Божией, а не человеческой, как бы она отличалась от крови козлов, тельцов и телиц? Все это – вещи земные и тленные, и таким же образом человеческая кровь является земной и тленной по своей природе. Но о крови Христовой мы никогда не скажем, что она принадлежит к такому роду вещей, земных и тленных по своей природе»273. Здесь мы сталкиваемся с типично докетическим учением, которое святой Иустиниан не колеблясь называет богохульным.
Относительно же источников того времени отнюдь нельзя сказать, что все они согласуются с тезисами, защищаемыми митрополитом Дамаскином и комиссией, на которую он ссылается. Действительно, в тех же актах Халкидонского Собора содержатся несколько обвинений в ереси. Первый обвинитель Диоскора, Евсевий Дорилейский (который в 448 году выступал против Евтихия), инкриминировал ему «преступление против православной веры», заявив: «мы обвинили упомянутого Диоскора в том, что он разделяет мнения еретика Евтихия, который был анафематствован и низложен, и в том, что, стремясь утвердить ересь Евтихия, он в ходе созванного в Ефесе собора […] сколь мог разрушил правую веру и ввел закваску чуждой ереси в кафолическую Церковь»274. Еще один обвинитель – Александрийский диакон Феодор – также именует Диоскора еретиком и упоминает о его стремлении изгнать или устранить близких Кирилла по причине «его ненависти к православной вере» последнего275. Александрийский пресвитер Афанасий заявил, что Диоскор был «охвачен ненавистью к православной вере Кирилла, ибо он [был] еретиком»276.
Позднее святой Иоанн Дамаскин не колеблясь заявит: Диоскор Александрийский «был осужден Халкидонским Собором как защитник учений Евтихия»277.
Другие отцы, рассматривавшие эти вопросы, также считают Диоскора еретиком, и присоединяют его либо к Евтихию (которого он поддержал), либо к Севиру (который является продолжателем его мысли). В частности, святой Савва склонил некоего монофизитствующего еретика «принять Халкидонский Собор, приобщиться к Православной Церкви и предать проклятию Евтихия и Диоскора»278. Автор жития святого Саввы святой Кирилл Скифопольский упрекает Севира Антиохийского в том, что признавал равными между собой Кирилла и Диоскора279.
Можно привести еще несколько примеров из того множества Отцов, которые смотрят на Диоскора как на еретика: святой Иустиниан (который присоединяет его к аполлинарианству и манихейству и считает его христологию богохульной, противоположной учению святых Афанасия и Кирилла Александрийских и противной учению Священного Писания и Отцов)280, автор De sectis281, святой Тимофей Александрийский282, святой Афанасий Синаит283, святой Софроний Иерусалимский284 (который говорит о нем как о «защитнике Евтихия» и провозглашает на него «вечную анафему»), святой Никифор I, патриарх Константинопольский285, святой Фотий286…
На Константинопольском Соборе 536 года Диоскор был осужден вместе с Евтихием287.
В одном ряду с другими знаменитыми еретиками (а не лицами, нарушившими церковную дисциплину), Диоскор был анафематствован несколькими другими Соборами – Латеранским Собором (649 года)288, VI Вселенским Собором (III Константинопольским, 680–681 гг.)289, VII Вселенским собором (II Никейским, 787 г.)290. То же можно сказать о Синодике в Неделю Торжества Православия291, который свидетельствует о том, что анафематствование Диоскора является частью живого и постоянного догматического сознания Церкви, проистекает из него.
Об этом также свидетельствует осуждение Диоскора (единолично или в соседстве с Севиром или Евтихием) в песнопениях вечерни и утрени Недели Отцов первых шести Вселенских Соборов: «Два̀ є҆стества̀ хрⷭ҇то́ва всѝ проповѣ́даемъ неслїѧ́ннѡ, всѧ́кое нече́стїе є҆ѵтѵ́хїа вѣ́рнїи, а́бїе и҆ дїоско́ра безꙋ́мнагѡ попира́юще, послѣ́дꙋемъ предѣ́лꙋ ст҃ыхъ ѻ҆тє́цъ , и҆ кѷрі́лла бжⷭ҇твеннагѡ рече́нїємъ». «Дв҃ꙋ тѧ и҆ чⷭ҇тꙋю пресла́внꙋю, бг҃ороди́тельнице марі́е, благочести́вїи вои́стиннꙋ проповѣдꙋемъ, загражда́юще безстꙋ́днаѧ ѹ҆ста̀ несто́рїа, и҆ дїоско́ра ѕломы́слїе»292.
«Согласованные заявления» и комментарии к ним сосредотачиваются на личности Диоскора. Однако анализ воззрений монофизитских богословов, стоявших на одних с ним позициях и следовавших одной с ним линии рассуждений, привел бы к аналогичным выводам, тем более что их труды сохранились и могут быть исследованы. Речь идет, в частности, о Тимофее Элуре293, Петре Монге, Филоксене Маббугском, Иоанне Теллском и тем более о многочисленных последователях Севира Антиохийского, имена которых мы находим в составленных Отцами Церкви списках еретиков294.
X. Статус Халкидонского Собора
Хотя в «Согласованных заявлениях» это не отображается, следует сказать, что представители нехалкидонских Церквей продолжают враждебно относиться к Халкидонскому Собору, причем эта враждебность, судя по их словам, непреложна295. Некоторые из них также отрицают последующие Вселенские Соборы, что вполне логично, поскольку они повторяют и подтверждают Халкидонское исповедание.
Характерно, что Халкидон вовсе не упоминается ни в том, ни в другом «Согласованном заявлении», как будто и сами православные его проигнорировали и как будто подтвердившие его последующие Соборы не происходили.
Можно только удивиться при чтении девятого параграфа «Второго согласованного заявления»: «В свете нашего согласованного заявления по христологии, а также по упомянутым общим положениям мы теперь ясно поняли, что обе семьи всегда верно придерживались той же авторитетной православной христологической веры и непрерывного продолжения апостольского предания, хотя применяли христологические термины различным способом. Эта общая вера и постоянная верность апостольскому преданию должны стать основой нашего единства и общения».
Прежде всего следует подчеркнуть, что речь идет не об оценке «Согласованного заявления» в свете Предания Православной Церкви, но – наоборот – об оценке Предания Православной Церкви в свете «Согласованного заявления».
Можно, кстати, задаться вопросом: в каком же это свете, раз «Заявление» набрасывает непроницаемую ширму на Халкидонский и все последующие Соборы, прояснившие вероучение перед лицом двусмысленных дохалкидонских выражений, которые можно было понять как в православном, так и в неправославном значении. Более того, устанавливаемое этим «Заявлением» согласие опирается на двусмысленность этих же самых дохалкидонских выражений, причем нам представляется, что они здесь получают скорее антихалкидонскую и севирианскую, чем православную, интерпретацию.
Выражение «в свете нашего согласованного заявления» было бы смешным, если бы не было столь трагичным: «Заявление» освещает само себя! Чего стоит такой свет рядом со светом Святого Духа, просветившим Отцов Церкви, которые, на Соборах или по отдельности, осудили те самые богословские заблуждения, которые теперь одобряют подписавшие оба «Согласованных заявления»? Ответ ясен.
Примечателен явный контраст между выражением «в свете нашего согласованного заявления» и теми словами, которые обычно звучат на соборах и синодах (и которые мы находим в начале Халкидонского определения): «последуя Святым Отцам…»296. В «Заявлении» действительно затруднительно было бы утверждать, что оно следует Святым Отцам: если бы оно им следовало, то пришло бы к совершенно другим выводам.
Как можно было утверждать во «Втором согласованном заявлении», что «обе семьи всегда верно придерживались той же авторитетной православной христологической веры», когда со времени Халкидонского Собора Православная Церковь, голосом своих Отцов и Соборов, не переставала заявлять о еретичности христологической веры антихалкидонитов и осуждать ее?
Кстати, это выражение содержит в себе и показательное признание: единство веры не было установлено по итогам богословской дискуссии между Православной и нехалкидонскими Церквами и на основании соглашения, выработанного в ходе этой дискуссии. В «Заявлениях» утверждается, что это соглашение и это единство веры существовали всегда. Да это было принято и изначально, еще до начала богословской дискуссии – еще в коммюнике, опубликованном по итогам самых первых собеседований в Орхусе, заявлялось: «Мы признаем друг в друге единую православную веру Церкви. […] По существу христологического догмата обе наших традиции продолжают оставаться в полном согласии с вселенской традицией единой и нераздельной Церкви»297. «Эксперты», сидевшие в комиссиях по диалогу, явно играли лишь созерцательную роль, став богословскими поручителями проекта, цель которого была определена заранее, так что с их мнением никто и не собирался считаться.
Довольно дерзко звучит и утверждение о том, что «по существу христологического догмата обе наших традиции продолжают оставаться в полном согласии с вселенским Преданием единой и нераздельной Церкви». Ведь как Халкидонский Собор, так и последовавшие за ним Соборы считали, что антихалкидониты не исповедуют православную веру, что их вера не соответствует Преданию единственной и единой Церкви Христовой298 и, следовательно, что они исключены из ее лона и общения.
В приведенной выше цитате «Заявления» дважды ставится ударение на уважении к «апостольскому преданию» и сохранении его. Однако апостольское предание, понимаемое в общепринятом широком значении того, что было передано апостолами и их преемниками, включает в себя и учение многочисленных Отцов, осудивших христологию нехалкидонских Церквей. И уж о согласии с ней оно вовсе не свидетельствует – совсем даже наоборот.
Нехалкидонские Церкви никогда не признавали православную веру в том виде, в каком она была определена Халкидонским Собором и подтвердившими его последующими Вселенскими Соборами. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что то согласие, о котором идет речь, сводится к одностороннему признанию веры нехалкидонских Церквей со стороны православных, подписавших «Согласованные заявления».
Во «Втором согласованном заявлении» подчеркивается: «Обе семьи принимают три первых Вселенских Собора, которые составляют наше общее наследие. Относительно четырех последующих Соборов Православной Церкви православные заявляют, что для них вышеприведенные пункты 1–7 – это также учение четырех последующих Соборов Православной Церкви, в то время как восточные православные считают это заявление православных их толкованием. При таком понимании восточные православные положительно отвечают на него»299. За этой тяжеловесной и колеблющейся формулировкой скрывается простая истина: нехалкидониты отказываются признать последующие Ефесскому четыре Вселенских Собора, считают утверждение православных о согласии этих четырех последних Соборов с первыми тремя их собственной интерпретацией, ни к чему самих нехалкидонитов не обязывающей300.
Это означает, что определения и канонические постановления Вселенских Соборов потеряли свое нормативное и вселенское значение, что они уже необязательны для всех Церквей и составляющих их верующих и что каждая Церковь может на вполне законном основании признавать их частными мнениями или высказываниями, которые обязывают только тех, кто их принимает. Таким образом, мы впадаем в полный релятивизм. В конечном итоге подписавшие «Заявления» православные признали возможным отношение к Соборам, аналогичное «свободному исследованию», принятому у протестантов по отношению к Священному Писанию.
Приходится напомнить то, что должно было бы быть очевидно каждому: Православная Церковь – Церковь не трех первых Соборов, но – по общепринятому выражению – «Церковь семи Соборов»301.
Каждый из Соборов опирался в своем определении веры на предшествующие и подтверждал их. Все они представляют неразделимое целое. Невозможно верующему или даже какой-либо Церкви составлять свою собственную выборочную веру, отбирая в том или ином Соборе то, что подходит к собственному исповеданию веры, и отвергая остальное. Да к тому же каждый Вселенский Собор имплицитно или эксплицитно включает в себя определения веры предшествующих ему Соборов. Более того, как это ни парадоксально, можно сказать, что каждый Вселенский Собор потенциально содержит в себе определения веры последующих Соборов, будучи в полном единстве веры с ними. Именно поэтому преподобный Феодор Студит утверждал, что если принимать за норму учение I Вселенского Собора, то это обязывает к такому же отношению и ко всем остальным Соборам302.
Эта же точка зрения была детально развита святым Фотием в одном из его посланий к армянам. Аргументация святого патриарха заслуживает развернутого изложения: «Вы с пафосом заявили о том, что ваша вера – правильная, и отдельным заявлением подтвердили, что вы, как вам представляется, принимаете три [первых] Собора. Но в том, что касается последующих, ваше молчание оскорбительно для их совокупности, а относительно другого [Четвертого, Халкидонского] вы не колеблясь посмели употребить против него множество неблагозвучных выражений […]. Как можно утверждать свое уважение к Соборам, ругая при этом тот, который един с ними по содержанию, и признавать их догматы, отвергая при этом их подтверждение? Ибо поистине Халкидонский Собор стал подтверждением и печатью предшествующих ему трех: хотя он четвертый по порядку, однако ни в чем им не уступает по достоинству. Он равным с ними образом бичует безумство Ария и отвергает схожие заблуждения Македония и Нестория. Он изгоняет и авторов аналогичного, хотя и противоположного [предыдущим], богохульства – Евтихия и Диоскора, эту двоицу, которая вместе погружается во тьму: он анафематствует их мерзкую болтовню. Ибо та и другая из упомянутых ересей полностью отрицает наше спасение и толкает к пропасти тех, кто ей следует: первая, разделяя ипостась, осмеливается отрицать соучастие нашей природы божественной сущности; вторая же, соединяя природы, неосторожно доходит до того, что разрушает одну из них. При таких обстоятельствах кто может сказать, что он отвергает Халкидонский Собор, но почитает остальные? Признавая последние, как же он не принимает того, который их подтверждает? Этого быть не может, действительно быть не может, как бы Севир [Антиохийский], Петр [Монг], Феодор, Тимофей [Элур], Иоанн [Теллский] (который действительно напрасно трудится (Ссылка на выражение св. Иоанна Дамаскина: «тщетно трудившийся Иоанн троебожник» (О ста ересях. Гл. 83; см. выше разд. B.VIII.4.e). – Ред.)), Конон и Евгений и вся толпа их предшественников по секте, – как бы все они ни вопили по этому поводу, ибо истина проявляется не в шуме голосов, но в природе вещей. Если бы кто-либо предложил вам почитать первый из священных Соборов, но отвергать второй, вы бы отвергнули его как лжеца и не допустили бы в ряды верных, несмотря на все его заверения и клятвы; или если кто-либо предложил бы вам почитать первые два Собора и отвергать третий, вы бы не стали доверять его вере двум первым. Исходя из этих примеров, нас нельзя будет обвинить в несправедливости, когда мы, признав за вами право быть судьями над другими, применим к тем, которые нам говорят о почитании трех первых Соборов и не признают четвертый, тоже решение, которое вы применили к другим, и не сможем признать истинным ваше мнение по поводу единственного [отвергнутого] Собора. Принимай содержание трех и не отвергай четвертого, ибо все это – одно и отрицание догматов четвертого равнозначно отрицанию [трех]. Почему же ты присваиваешь себе право на [те три], которые однородны [с четвертым]? Не ради ли того, чтобы, прикрываясь этим притворным принятием трех, хитро подсунутая нечестивая ошибка была с бóльшим доверием принята малоосведомленными людьми? Ради того, чтобы устроить самому себе убежище от худших болезней через то, что не возводишь бесстыдную хулу на все [Соборы]? […] Тот, кто не предвзято и справедливо борется за один только [из Соборов], может непостыдно надеяться на венец во имя всех Соборов. Таким же образом тот, кто заостряет свой язык против какого-либо из них, тотчас заслуживает такого же осуждения, как если бы он восстал на всех их. Поэтому III Вселенский Собор не пощадил Нестория, несмотря на то, что он ничего не говорил плохого о предшествующих Соборах; но поскольку он не соглашался с этим Собором, он был низложен так, как будто он похулил все три Собора. Поэтому и Четвертый Собор осудил Евтихия и Диоскора вместе с Несторием, поскольку они, хотя, вероятно, принимали три первых Собора, восстали, однако, против этого. И всякий, кто будет разделять их мнение, будет таким же образом осужден и притом не будет осужден несправедливо»303.
Если бы нехалкидониты действительно признавали Первый Никейский, Первый Константинопольский и Ефесский Соборы и понимали их в подлинно православном значении, то они также признавали бы и Халкидонский Собор, и последующие – в силу принципиального единства веры, объединяющего эти Соборы, и потому что они свидетельствуют об одной и той же Истине. Таким образом, невозможно признать единство веры и единство общения между православными и нехалкидонитами, если последние не признают веру, выраженную на последних четырех Соборах, а вернее – если не признают одну и ту же веру, выраженную на всех Вселенских Соборах при содействии Одного и Того же Духа Святого.
Конечно, каждый Собор был призван к уточнению и разъяснению веры перед лицом ошибок в понимании предшествующих выражений и определений веры. То есть каждый Собор становится нормой интерпретации предшествующих Соборов. Таким образом, «в православном Предании Халкидонское определение становится нормой интерпретации Ефесского и Второго Константинопольского Соборов»304. Определение веры Ефесского Собора содержало в себе некоторые неоднозначности, которые стали ясны в свете последующих ошибочных толкований и потребовали уточнений, данных в Халкидонском исповедании веры. Таким же образом ошибочные толкования, порожденные неоднозначностями или умолчаниями этого исповедания, потребовали разъяснений, которые были даны Вторым Константинопольским Собором.
Как известно, ссылки на Священное Писание бывают недостаточны, поскольку Священное Писание оставляет место для множества интерпретаций, из которых многие могут быть ошибочными. Самые абсурдные «христианские» секты ссылаются на Священное Писание. Более того, как правило, чем более они заявляют о своем «фундаментализме», то есть претензии на буквальное понимание Священного Писания, тем в большем заблуждении они пребывают. Таким же образом ссылка на первые три Собора будет недостаточной и даже лишенной значения, если они будут ошибочно поняты и истолкованы в сторону ереси. Соборы, наравне со Священным Писанием, могут быть поняты лишь на основании «правила веры» и Предания Церкви в его совокупности305.
Можно считать, что первые три Собора поняты в неправославном смысле, когда их понимание не совпадает с тем, которое было определено на последующих Соборах. Отвергая Халкидон и последующие Соборы, антихалкидонские богословы лишь свидетельствуют о том, что понимают предшествующие Соборы в неправославном смысле, не соответствующем «правилу веры» и Преданию Церкви. Никейские и Ефесские Отцы, конечно, не использовали язык Халкидонского, или Второго и Третьего Константинопольских Соборов. Однако нет сомнений в том, что они признали бы в этих Соборах адекватное выражение православной веры. Православное сознание позволяет отличить истину от заблуждения, невзирая на различия в выражениях веры. То, что нехалкидониты не признают позднейшие Ефесскому Собору определения веры и неспособны распознать скрытое за различными формулировками единство веры, обличает их инородность этому православному сознанию.
Противоречит православной экклезиологии та идея, что будто бы нехалкидонские Церкви сохранили православную веру в том виде, в каком она существовала до Халкидонского Собора. Понятие «дохалкидонская вера» на сегодняшний день является лишь историческим абстрактным понятием. Оно имело смысл до Халкидона, но в настоящее время является чистой фикцией. После Халкидона уже не может быть православной дохалкидонской веры, но только антихалкидонская и инославная. Отвергая Халкидон и отличая свою веру от той, которая была определена Церковью в Халкидоне, нехалкидонские Церкви выбрали веру, отличную не только от той, что была исповедана Халкидоном, но и от той, что исповедовалась до Халкидона, ибо речь идет об одной и той же вере Православной Церкви. Мы видели выше, что христология святого Кирилла Александрийского была переинтерпретирована в рамках севирианского богословия и получила здесь новую сущность. Точно таким же образом та вера, которую Православная Церковь исповедовала до Халкидона, была переинтерпретирована группами раскольников, которых назвали нехалкидонскими Церквами, и получила в их среде новую сущность.
Нередко к вере нехалкидонских Церквей относятся с уважением или считают достойной уважения, ссылаясь на ее древность. Однако, как подчеркивает отец Георгий Флоровский, хотя древность является признаком подлинного предания, она, однако, не единственный признак и, во всяком случае, не самодостаточный. «Сама по себе “древность” еще не доказывает истинности. […] И ереси апеллировали к прошлому и взывали к авторитету “преданий”. Немало ересей попросту безнадежно застревали в прошлом. Древние формулы зачастую способны ввести в заблуждение. Вполне сознавал эту опасность Викентий Лиринский – достаточно привести такие его взволнованные строки: “И вот, что за удивительное превращение! Авторы мнений признаны православными, а их последователи – еретики; учителя оправданы, ученики осуждены; писатели книг станут детьми Царства, а их почитатели отправятся в геенну. […] “Древность” как таковая может оказаться просто закоснелым предрассудком... древность без истины есть старая ошибка»306.
Православные, подписавшие «Заявления», не могут одновременно абстрагироваться от Халкидонского Собора и последующих подтвердивших его Соборов, или отвергать что-либо из их догматических определений, или отменять какие-либо их канонические решения, – и вместе с тем продолжать считать себя православными. Равным образом – нехалкидонские Церкви не могут придерживаться подобной же линии поведения и вместе с тем полагать, что они едины с Православной Церковью.
По воле Божией каждый из Вселенских Соборов получил значение столпа веры и занял в Православной Церкви существенное и незаменимое положение. Я. Пеликан напоминает, что для таких Отцов, как святой Софроний Иерусалимский, святой Максим Исповедник или святой Григорий Великий, «[первые] четыре Собора занимали особое положение в системе догматических авторитетов, сопоставимое с положением четырех Евангелий»307. Позднейшие Соборы получили аналогичную оценку в глазах Отцов Церкви.
Каждый из тех Соборов, в которых Православная Церковь признала адекватное выражение своего догматического сознания, имеет абсолютное и непреложное значение в том смысле, что его исповедание веры утверждает истину. Тот, кто отвергает (или не признает) хотя бы один Собор, не может называть себя православным.
Естественно, исповедание веры того или иного Собора не говорит о Боге всё и не содержит в себе возражения против всех возможных искажений веры. В этом смысле, хотя о каждом из Соборов нельзя сказать, что он является лишь частичным, и хотя в каждом из них содержится некая полнота, тем не менее каждый из них дополняет предшествующие ему Соборы и восполняет норму веры, которая ныне определяется совокупностью Вселенских Соборов, Священным Писанием и учением Отцов. Эти три столпа веры, поддерживая и освещая друг друга, составляют Предание и определяют догматическое сознание Церкви, которая, со своей стороны, посредством присутствующей и живущей в ней благодати Святого Духа открывает путь к их правильному пониманию308. Предание, понятое в таком смысле, является неподвижным и неизменным. Владыка Каллист Уэр справедливо пишет по этому поводу: «Из всех составных частей предания непреложное значение имеют Библия, Символ Веры, вероучительные определения Вселенских Соборов: в глазах православных они являются абсолютными и непреложными, не могут быть ни отменены, ни пересмотрены»309; «вероучительные определения какого-либо Вселенского Собора непогрешимы. Таким образом, в глазах православных исповедания веры, установленные семью Вселенскими Соборами, имеют, наравне с Библией, неотменяемый и постоянный авторитет»310.
XI. Релятивизация Вселенских Соборов
Позиция тех, кто подписал и кто поддерживает униональный проект, не находит никакого оправдания с точки зрения Предания Церкви. По этой причине у них не остается никакого другого выхода, как только попытаться доказать относительность Соборов – не в том смысле, что они друг друга дополняют, но в том, что их определения веры и канонические решения имеют будто бы лишь относительное значение311. В данной перспективе определения веры и канонические решения Соборов рассматриваются лишь как производная от политических факторов, как мнение тех, кто оказались сильнее в борьбе двух партий, а также как плод социальных или психологических факторов312. Такой историко-социологический подход есть подход современной «науки» (сам метод которой изначально исключает всякую ссылку на духовный фактор), равно как и тех конфессий, которые принимают ее как норму. Однако он не может стать подходом Православной Церкви, для которой заключения (определения веры и канонические решения) принятых ею Соборов запечатлены Духом Святым, просветившим тех Отцов, которые подготовили эти заключения. Как было показано отцом Георгием Флоровским, сущность авторитета Соборов – не формально-каноническая или институционная, но харизматическая: «В самом деле, те Соборы, что были действительно признаны “Вселенскими”, в смысле признания обязательности и непогрешимости их авторитета, были признаны таковыми, сразу же или с некоторой задержкой, не вследствие их формальной канонической компетенции, но в силу их харизматического характера: под водительством Святого Духа и в согласии с Писанием они свидетельствовали об Истине, которая была передана апостольским Преданием»313.
То гуманистическое объяснение Соборов (то есть объяснение их хода исключительно человеческим фактором), которое выдвигают некоторые сторонники унионального проекта, контрастирует с их же почитанием и уважением к Отцам Соборов и к тому действию Духа Святого, которое выражается в решениях Отцов. К примеру, святой Софроний Иерусалимский говорит о «собрании, исполненном мудрости Божией, составленном шестью стами тридцатью Отцами, носителями пламени веры», о «собрании божественного происхождения, божественные заседания которого происходили в Халкидоне»314.
Некоторые соборы, не соответствующие Истине, были отвергнуты Православной Церковью, порой несколько месяцев, порой несколько лет, а порой и несколько десятилетий после того, как они состоялись. Самый известный тому пример – Ефесский собор 449 года315, однако можно также вспомнить о Лионском соборе (1274 года) и о Флорентийском соборе (1438–1439 годов). Однако никогда не было такого, чтобы собор, равно как и его исповедание веры, был отвергнут или даже просто низведен на второстепенное значение спустя несколько веков после того, как он состоялся. А именно это пытаются сейчас сделать и оправдать те, кто подписал «Согласованные заявления», и сторонники унионального проекта316.
Сами Вселенские Соборы провозглашают окончательное и непреложное значение своих догматических определений. Халкидонский Собор указывает в заключение своего определения веры: «Когда таким образом со всею тщательностью и стройностью это изложено нами, святой и вселенский Собор определил никому не дозволять другую веру произносить, или писать, или составлять, или мудрствовать, или учить других. А тем, которые дерзнут или составлять другую веру, или проповедовать, или учить, или преподавать другой символ желающим обратиться к познанию истины из язычества, или из иудейства, или из какой-нибудь ереси, таковым, если будут епископы или клирики, епископам быть чуждым епископства, а клирикам – клира; если же будут монашествующие или миряне, таковым быть под анафемой»317.
Второй Константинопольский Собор (553 года) повторяет последнее осуждение, подтвердив перед этим определения предшествующих ему четырех Вселенских Соборов и утвердив единство и тождество их веры318. Равным образом Третий Константинопольский Собор (680–681 годов), заявив, что он следует «пяти святым и вселенским [предшествующим] Соборам», буквально повторяет приведенное выше заключение Халкидонского Собора319. Отсюда видно, какую судьбу определили Соборы тем, кто подписал «Согласованные заявления», и тем, кто их одобряет.
XII. Вопрос о снятии анафем
Во «Втором согласованном заявлении» предлагается обоюдное снятие анафем и осуждений «обеими семьями»320. В коммюнике Смешанной комиссии (Женева, 1–6 ноября 1993 года) предлагается ряд конкретных мер по действительному снятию этих анафем и осуждений, которые рассматриваются как последнее препятствие для осуществления унии и восстановления общения.
С целью оправдания этих действий утверждалось, что канонические решения не имеют столь непреложного значения, сколь догматические определения. Да, верно то, что Церковь может применять икономию в исполнении канонов, а также изменять некоторые из них, применяясь к изменяющимся обстоятельствам (к примеру, некоторые наказания, предписанные канонами в случае определенных преступлений, претерпевали изменения, – в зависимости от эпох).
Следует, однако, заметить, что анафемы, о которых здесь идет речь, связаны не столько с собственно канонической стороной соборных решений, сколько с их догматической стороной: они содержатся в определениях веры, которые непреложны. В том, что касается еретиков, Церковь всегда стояла на том, что их анафематствование не может быть отменено после их смерти, если они не покаялись321. Судя по всему, митрополит Дамаскин вполне это осознает, во всяком случае, его тактика состоит в том, чтобы попытаться перенести осуждение руководителей монофизитов из области догматической в область каноническую. С этой целью он стремится утвердить ту мысль, что будто бы они были осуждены не по причине ереси, а по дисциплинарным причинам (отвержение решений Собора, отделение от Тела Церкви). Нами было показано выше, что такая аргументация неприемлема. С точки зрения Предания Церкви, снятие анафем, произнесенных против Диоскора, Севира Антиохийского или других представителей умеренного монофизитства, – неприемлемо.
Защищать снятие анафем со ссылкой на взаимность – бессмысленно: анафемы, произнесенные неправославными Церквами против православных Отцов, недействительны с точки зрения Церкви и не имеют никакой цены322. А вернее, по выражению святого Фотия, они бесконечно возвеличивают этих Отцов323 и, как это провозглашается в деяниях VII Вселенского Собора, делают их достойными всяких похвал, поскольку они являются косвенной похвалой Православию.
Кроме всего прочего, снятие анафем нисколько не помогло бы выяснению вопроса по существу и оставило бы нерешенным множество проблем.
Нехалкидониты полностью и окончательно отказываются признать православие сторонников и защитников Халкидонского Собора и, более того, утверждают, что они – еретики. Один из основных участников унионального проекта со стороны нехалкидонитов – Поль Вергез, ставший теперь митрополитом Павлом Мар Грегорием, еще не так давно открыто заявлял: «Мы считаем, что Лев [Великий, автор Томоса] совершенный еретик»324. Нехалкидонские Церкви считают и святого Максима Исповедника еретиком, хотя не смеют открыто говорить об этом. Нехалкидонский автор его знаменитого сирийского Жития представляет его сыном блудницы, нечестивцем, богохульником и еретиком325. Глава из Хроники патриарха Михаила Сирианина326, посвященная святому Максиму, озаглавлена «О ереси нечестивого Максима»327. Она повторяет содержание трактата, написанного против Максима другим нехалкидонитом – Симеоном Кеннесринским, и озаглавленного «Об истоках ереси максимиан, которая до сегодняшнего дня существует в Церкви Халкидонитов»328. Какое же житие святого Максима мы будем читать, если произойдет объединение между нехалкидонскими Церквами и Православной Церковью? Будут ли нехалкидонские Церкви продолжать смотреть на Льва и Максима (ограничимся здесь лишь этими двумя примерами) как на еретиков или же попросту применят к ним фигуру умолчания, в то время как Православная Церковь будет продолжать почитать их святыми и праздновать их память? И наоборот – будет ли Православная Церковь отмечать память «святого Диоскора», или «святого Севира», или же применит к ним фигуру умолчания, в то время как нехалкидониты будут продолжать почитать их мощи?
Или, хуже того, будем ли мы с равной честью относиться как к святым к тем кто мученически скончался во свидетельство о Православной вере, и к тем, кто их гнал и мучил329.
Непонятно, что может означать недавнее предложение Антиохийского Патриархата, чтобы «обе семьи Церквей» предложили своим студентам-богословам изучать Отцов обеих Церквей, придавая им равное значение. К примеру, трудно понять, как можно изучать одновременно Севира и Максима, рассматривая их обоих как Отцов одной Церкви, находящихся в единстве веры!
Можно лишь возмутиться предложением Комиссии по диалогу «очистить» (sic) агиографические и богослужебные тексты от всего, что может быть неприятным нехалкидонитам330. Это означало бы, что в Синаксаре должны исчезнуть целые страницы из жизни некоторых святых или даже все посвященные им главы (к примеру, от жития святого Максима не осталось бы почти ничего). Гимнография памяти святых Отцов первых шести Вселенских Соборов должна бы почти полностью быть заменена новыми текстами, или даже сама память – заменена другой, например, памятью «Отцов первых трех Вселенских Соборов», или, в лучшем случае, «Отцов Вселенских Соборов, за исключением Халкидонского». Гимнография большинства православных святых тогда должна бы быть значительно урезана или заменена.
XIII. Сомнение в единстве и единственности Церкви
В обоих «Согласованных заявлениях» речь идет о «двух семьях Церквей». Причина такого словоупотребления – не только в том, что уния еще не осуществлена, но и в том, что в условиях унионального проекта, определенного в «Заявлениях», невозможно по-настоящему говорить о единой Церкви. Православная Церковь и нехалкидонские Церкви различаются по способу выражения своей веры, по тому, какие они признают соборы и каких они почитают святых… Поскольку авторы «Заявления» не могут с полным правом говорить о единой Церкви, они применяют выражение «две семьи». Многих читателей331 такое выражение тотчас наводит на мысль об известной экуменической теории ветвей, с которой хорошо знакомы многие сторонники унионального проекта – горячие поборники экуменизма332. На самом же деле эта теория несовместима с понятием и исповеданием единства Церкви – понятием, неотъемлемым от православной веры и экклезиологии.
Ревизионизм по отношению к прошлому Церкви, который выдвигается подписавшими «Согласованные заявления» православными, наносит ущерб сознанию Православной Церковью своего единства и своей единственности, своего православия – сознанию, свойственному Церкви во все времена. Ж. Манцаридис (G. Mantzaridis) по этому поводу пишет: «Православная Церковь осознает, что она является неразрывной продолжательницей единой и нераздельной Церкви. Это сознание зиждется на единстве – сквозь века – с апостольской Церковью. Единство Церкви, будучи существенным свойством ее природы, даже не обсуждается. Не может быть нескольких Церквей, потому что не может быть нескольких христов и не может быть нескольких тел христовых. Эта точка зрения не является ни реакционной, ни консервативной, она попросту соответствует традиционному сознанию Церкви о самой себе. В этом – изначальное воззрение Церкви, которое всегда было выражено в экклезиологической традиции. По этой причине тот путь, в ходе которого утверждается восстановление полного общения между нехалкидонскими Церквами и Православной Церковью, создает значительные затруднения для православного самосознания. Невозможно, чтобы посредством нового догматического соглашения собрания, в свое время осужденные Вселенскими Соборами, стали рассматриваться как православные по своему учению. Ибо всякое учение определяется не только формулировкой догмата, но выражает также единство и самосознание Церкви. Невозможно, чтобы лица, анафематствованные в Синодике в Неделю Торжества Православия, рассматривались как Отцы другой Церкви, о которой в конце концов предполагается, что она будет признана единой с той, в которой был составлен этот Синодик. Во все времена, а особенно в такие судьбоносные времена, как те, которые мы ныне переживаем, необходимо обращать внимание на самотождественность сквозь века и на самосознание Православия»333.
Заключение
Вопреки тому, во что нас хотят заставить поверить некоторые сторонники унионального проекта, диалог между Православной Церковью и нехалкидонскими Церквами – дело не новое.
В течение истекших веков православные богословы и антихалкидонские богословы изложили и развили друг перед другом свои точки зрения, более того, за прошедшие века и до настоящего дня было создано немало униональных проектов.
История показывает, что, как это ни печально, антихалкидониты (за исключением армянской Церкви334), никогда ни в чем не изменяли свои воззрения и что все шаги по сближению совершались со стороны Православной Церкви, что привело значительное число ее иерархов к непосредственной близости к ереси, а иногда – и к впадению в нее. Крайним и наиболее драматичным примером стали в VII веке моноэнергистская и монофелитская ереси, в которые впали все восточные патриархаты, включая патриархов, епископов и «экспертов». Эти ереси стали порождением богословских компромиссов, подготовленных православными патриархами Константинополя и Александрии, которые, наряду с почти всеми богословами того времени, были убеждены в безусловном православии этих компромиссов. Лишь богословская борьба, предпринятая малым числом верных – святым Софронием Иерусалимским (первоначально бывшим простым монахом), затем святым Максимом Исповедником и его учеником и сотрудником Афанасием, – привела к тому, что при поддержке Римской Церкви эта ересь была осуждена на Латеранском Соборе, а затем окончательно истреблена спустя приблизительно двадцать лет после их мученической кончины, на VI Вселенском Соборе (III Константинопольском, 680 года).
Еще ранее попытки унии проводились на высшем уровне: в частности, можно вспомнить о распространении Энциклики императора Василиска (476 год) и Энотикона императора Зенона (482 год). К счастью, эти документы были отвергнуты церковным сознанием в лице православного народа, вопреки компромиссам некоторых наиболее высокопоставленных иерархов. В них мы находим общие черты с нынешним униональным проектом, в частности – отказ от исчисления природ Христа и умолчание о Халкидонском Соборе. По всей вероятности, нынешний униональный проект подвергнется той же участи, если только в него не будут внесены значительные изменения.
Нельзя согласиться с тем, чтобы униональный проект основывался на «Согласованных заявлениях веры», полностью выраженных в дохалкидонской терминологии, если при этом не будет определено, понимают ли его различные стороны в православном или неправославном значении, ибо многие формулировки двойственны и с исторической точки зрения могут быть отнесены к различным богословским системам.
Входе нашего анализа стало ясно, что «Согласованные заявления» (за исключением вопроса о волях и энергиях, в отношении которых, впрочем, остается неясность) выражены в терминах, которые вполне соответствуют антихалкидонскому богословию «монофизитов». Было также выявлено, что православная сторона согласилась признать в них свою веру, но что при этом не было никакого взаимного шага: то есть, что представители нехалкидонских Церквей не пошли на то, чтобы одновременно и таким же образом признать за халкидонской терминологией адекватное выражение православной веры. По этой причине нам думается, что представители той и другой сторон, подписавшие «Заявления», на самом деле и по существу исповедуют не одну и туже веру, или же, что если между ними есть единство веры, то значит «православные» представители исповедуют веру нехалкидонитов.
Антихалкидониты обвиняли Халкидонское определение в том, что оно является несторианским исповеданием или что оно открывает дверь несторианству. В этих условиях богословский диалог мог позволить православным разъяснить, что, исповедуя во Христе «две природы» и что эти природы существуют «в действительности и по-настоящему», они не имеют в виду того, что эти природы разлучены в Нем или что Он ими разделен, ни тем более, что Он – в двух лицах. В VI и VII, а также в последующие века халкидонское богословие получило разъяснения и уточнения, которые с совершенной очевидностью показывают, что оно несовместимо с несторианством. Кроме того, за пятнадцать веков истории Церкви стало ясно, что несторианство, ныне сведенное к очень маленькой общине, никогда не составляло реальной опасности для Православной Церкви. Таким образом, можно говорить о некоторой недобросовестности выдвигающих такие аргументы нехалкидонитов.
Более того, совершенно немыслимо, чтобы были отменены анафемы, произнесенные сознанием Православной Церкви против руководителей и богословов умеренного монофизитства. Ни один из Отцов какого-либо века не считал, что Севир Антиохийский (который и по сей день является знаковой фигурой антихалкидонского богословия) не является еретиком и что его осуждение Православной Церковью может быть отменено. Те, кто считает иначе, явно стоят вне рамок consensus Patrum и вселенского традиционного сознания Православной Церкви («то, во что веровали все, всегда и везде»). То же самое можно сказать о тех, кто признает православной веру антихалкидонитов, которая считалась еретической всеми Отцами прошлого времени и Церковью, которая в течение пятнадцати веков держалась по этому поводу неизменного догматического сознания, выраженного как в ее Соборах, так и в ее богослужебной жизни.
Чтобы униональный проект стал приемлемым и осуществился к пользе, а не к ущербу всех, необходимо открыть новые дискуссии и прийти к новому Согласованному заявлению, в котором будут устранены все двусмысленности предыдущих и в которое будет внесено некоторое число новых уточнений, что позволит быть уверенными в том, что обеими сторонами исповедуется именно вера Православной Церкви.
Пер. с франц. иером. Саввы (Тутунова)
* * *
Речь идет о Коптской, Эфиопской, Сирояковитской (присутствующей в Сирии и Индии) и Армянской Церквах.
Итоговые документы и протоколы этой встречи опубликованы на англ. яз. в спец. номере: GOTR. X. 2. 1964–1965.
См. согласованное заявление: Ibid. P. 14–15; франц. пер.: Le Dossier préparatoire du dialogue théologique avec les Églises anciennes d’Orient. Supplément au S.O.P. № 61. 1981. P. 4–5.
Итоговые документы и протоколы этой встречи см: GOTR. XIII. 2. 1968.
Ibid. XVI, 1–2. 1971. P. 2–209.
Ibid. P. 210–259 а также: Abba Salama. VI. 1975. P. 233–254 и VII. 1976. P. 93–227.
В указанных номерах журнала GOTR, позднее – в журналах «Abba Salama» и «Episkepsis»; франц. пер.: Le Dossier préparatoire du dialogue théologique avec les Églises anciennes d’Orient. Supplément au SOP. № 61. 1981. P. 5–27.
Текст см.: Episkepsis. № 422. 1989. P. 7–8 (греч. издание); P. 11–12 (франц. издание).
Текст см.: Episkepsis. № 446. P. 17–22.
Оригинальный англ. текст см.: Supplément au SOP. № 183. 1993.
Речь идет об официальном принятии в Церковь в определенном канонами порядке бывших еретиков и раскольников.
В глазах модернистов догматические вопросы не имеют большого значения в сопоставлении с такими ценностями, как «любовь», «согласие», «мир» и проч. Относительно же консерваторов следует заметить, что многие из них уже давно испытывают симпатии к монофизитскому образу мышления. Между прочим, в уже довольно давней статье Владимир Лосский называет православных ультраконсерваторов «экклезиологическими монофизитами» («Соблазны церковного сознания» // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. № 1. 1950. С. 16–21). Некоторые представители этого течения, яро настроенные против Римской Церкви, видят в Халкидоне победу римского богословия (Томоса Льва) и по этой причине склоняются к александрийскому течению, в том числе и в его крайних выражениях, не боясь при этом соприкасаться с монофизитством. Следует заметить, что во время богословских собеседований в Орхусе довольно быстро было заключено соглашение между некоторыми представителями Православных Церквей и представителями нехалкидонских Церквей, умаляющее святого папу Льва Великого и его Томос. Это вызвало беспокойство таких богословов, как отец Георгий Флоровский и отец Иоанн Мейендорф. Первый заметил по этому поводу: «Я от всего сердца желаю примирения между Восточными Церквами, однако я не могу быть сторонником завышенной оценки Востока. Запад также принадлежит экумене. Мы не можем позволить себе забыть о Западе и о Томосе Льва. Христианское предание имеет вселенский характер. Византийская Церковь побоялась создать раскол через отказ от Томоса Льва. Мы также должны быть внимательны к этому» («Discussion concerning the Paper of Professor Karmiris» // GOTR. X. 1964–1965. P. 80). Реакцию отца Иоанна Мейендорфа см.: «Discussion concerning the Paper of Father Romanidis» // Ibid. P. 102.
Профессор А.Н. Папавасилиу, участвовавший в диалоге со стороны Кипрской Церкви и одобривший униональный проект, недавно изменил свое мнение, опубликовав исследование на 350 страницах, в котором он описывает историю диалога и излагает критику его результатов (Ὁ θεολογικός Διάλογος μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Ἱστοριοκοδογματική Μελέτη). Nicosie, 2000).
Его заявления были опубликованы в сборнике под названием: Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ὀρθόδοξοι [Православны ли антихалкидониты?]. Гора Афон, 1995. На Интернет-страницах http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/mono_athos.aspx и http://www.orthodoxinfo.com/ ecumenism/mono_athos2.aspx можно найти англ. перевод 1-го и 2-го заявлений: «Замечания комитета Священного братства Святой Горы Афон по поводу диалога между православными и антихалкидонитами» (февраль 1994) и «Меморандум Священного братства Святой Горы Афон по поводу диалога между православными и антихалкидонитами» (май 1995). Митр. Дамаскин ответил на этот «Меморандум» [«Réponse du métropolite Damaskinos de Suisse, co-président du dialogue avec les Églises orientales orthodoxes, à une lettre de la Communauté monastique du Mont-Athos concernant ce dialogue» («Ответ митрополита Швейцарского Дамаскина, сопредседателя диалога с православными Восточными Церквами, на послание Священного братства Святой Горы Афон, касающегося этого диалога») // Episkepsis. 521. Август 1995. P. 9–19] (далее – Réponse...). Ответ Святогорского братства был опубликован в сборнике Παρατηρήσεις περί τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου ὀρθοδόξων καί ἀντιχαλκηδονίων. Ἀπάντησις εἰς κριτικήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Δαμασκηνοῦ [Замечания по поводу богословского диалога между православными и антихалкидонитами. Ответ на критику Высокопреосвященнейшего митрополита Швейцарского Дамаскина]. Гора Афон, 1996; франц. пер.: La Lumière du Thabor. 47–48. 1996. P. 113–122.
Основная задача почти всех сборников, очерков, статей, опубликованных в поддержку унионального проекта, состоит в том, чтобы изложить историю и нынешнее состояние нехалкидонских Церквей, в том, чтобы подчеркнуть их литургическое, иконографическое и духовное богатство. Догматические же вопросы затрагиваются лишь вскользь. См., напр., специальные номера журналов MesO (126. 1994–1995) и «Contacts» (51. 1999).
См. по этому поводу статью отца Георгия Флоровского: A Criticism of the Lack of Concern for Doctrine among Russian Orthodox Believers // SVTQ. 3. 1955; перепечатана в: «The Collected Works of Georges Florovsky» (далее – CWGF). T. XIII. P. 168–170.
Митр. Дамаскин является характерным представителем этого течения. В частности, он проявил себя тем, что на знаменитом собрании в Ассизи в 1986 г. участвовал в синкретической религиозной церемонии, наряду, в частности, с буддийскими монахами, сикхами, индуистами, шаманами североамериканских индейцев или африканских анимистов. Еще один деятель унионального проекта, нехалкидонит митр. Павел Мар Грегорий (Paulos Mar Gregorios), также разделяет такую «гуманистическую» идеологию. В частности, в 1993 г. он заявлял в «Парламенте Мировых Религий» (sic): «наша цель в том, чтобы создать разностороннюю основу, в которой все культуры мира смогут объединиться и жить во всеобщем слиянии религий. […] История толкает нас к объединению во вселенском гуманизме». Очевидно, что при таком подходе христологические расхождения между Православной Церковью и нехалкидонскими Церквами представляются лишь незначительной деталью.
Напр., терминологические колебания и неоднозначности святого Кирилла Александрийского и Севира Антиохийского требуют работы опытных специалистов. То же можно сказать о понимании аргументации Максима Исповедника (одного из основных противников христологии Севира Антиохийского), стиль и мысль которого очень сложны.
Таким вопросом задается, напр., проф. Зисис в статье: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί ἡ “Ὀρθοδοξία” τῶν Ἀντιχαλκηδονίων [Святой Иоанн Дамаскин и «православие» нехалкидонитов] // ΓΠ. 744. 1992. P. 1137 (далее – Святой Иоанн…).
То, что в первых встречах участвовали такие знаменитые патрологи, как оо. Георгий Флоровский, Иоанн Мейендорф или Иоанн Романидис, не позволяет сомневаться в намеренном игнорировании этих вопросов – в том, что руководители диалога организовали его таким образом, чтобы эти проблемные вопросы не были затронуты. Таким образом, можно справедливо задаться вопросом о методологии и результатах диалога, в котором проблемные вопросы попросту не рассматриваются, а значительная часть Православного Предания – игнорируется.
Напр.: Gieseler J. C. L. Commentatio, qua Monophysitarum veteru errores ex eorum scriptis recens editis praesertim illustratur. 2 vol. Göttingen, 1835 и 1838; Dorner J. A. Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi. 2 vol. 2nd ed. Stuttgart, 1845 и Berlin, 1853; Harnack A. Lehrbuc der Dogmengeschichte. 3rd ed. T. II. Fribourg und Leipzig, 1894; Loofs F. Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche // TU. 3. 1–2. Lpz., 1887; Junglas P. Leontius von Byzanz // FCLDG. T. 7. № 3. 1908.
См.: Unofficial Consultation between Theologians of Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churches, 2 August 11–15. 1964. Papers and Minutes / J. S. Romanidis. P. Verghese, N. A. Nissiotis (ed.) // GOTR. X. 2. Winter, 1964–1965 (специальный номер) и GOTR. XVI. 1–2. 1971 (специальный номер), перепечатанный в: «Does Chalcedon Divide or Unite?». Genève, 1981.
Этот справедливый упрек высказывается в Меморандуме святогорского братства, цит. соч., с. 49.
См.: Episkepsis, 446. 1990. P. 3–11; 516. 1995. P. 10–22; 521. 1995. P. 9–19.
Многие епископы и богословы различных Церквей признают наличие этих двусмысленностей и недостатков. Однако они часто не смеют выразить эту мысль открыто. Впрочем, даже Оливье Клеман, весьма положительно настроенный по отношению к униональному проекту, недавно писал: «То, что в униональных текстах еще остаются двусмысленности […] лишь доказывает, что нам еще надо работать, углублять их содержание» (Chalcédoniens et non-chalcédoniens, quelques explications // Contacts. 51. 1999. P. 205). Мы, однако, не разделяем его заключение, согласно которому «это тем более легко будет осуществить, если будет восстановлено евхаристическое общение» (ibid.): один из основных принципов православной экклезиологии гласит, что евхаристическое общение может быть установлено лишь на твердой основе совершенного единства веры.
В данном случае мы ловим на слове митр. Дамаскина, который утверждал, что всякая критика уже опубликованных документов «может быть рассмотрена как продолжение диалога» (цит. по: Contacts. 51. 1999. P. 212).
Впрочем, по мнению многих, она уже сильно скомпрометирована. Один из горячих сторонников унионального проекта, посвятивший большой сборник его апологии, недавно говорил нам: «Уния не состоится».
В данном исследовании мы будем рассматривать как основоположника антихалкидонского богословия именно Севира Антиохийского, который действительно стал его основным представителем (см. ниже прим. 141). Тем не менее следует заметить, что он является наследником предшествующих ему антихалкидонских богословов – Филоксена Маббугского, Тимофея Элура, Иоанна Теллского. Лебон в своих капитальных работах: «Le monophysisme sévérien». Louvain, 1909 и «La christologie du monophysisme syrien» // Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart / A. Grillmeier, H. Bacht (éd.). T. I. Würzburg, 1951. P. 425–580 (далее – Das Konzil...) – исследует их мысль одновременно с мыслью Севира и показывает, как последний развивает и уточняет их богословие.
«Первое согласованное заявление» (далее 1СЗ), п. 8; ср.: «Второе согласованное заявление» (далее 2СЗ), п. 4.
1СЗ, п. 6–7; ср.: 2СЗ, п. 3.
Так полагает о. Андре де Аллё: Halleux P. A., de. Actualité du néochalcédonisme. À propos d’un accord récent // Patrologie et œcuménisme. Leuven, 1990. P. 490 (далее – Halleux. Actualité...).
[Так в издании вм. σύνθετος. – Редакция Азбуки веры.] Письмо 3 к игумену Иоанну.
2СЗ, п. 1, 2 и 7.
1СЗ, п. 5.
2СЗ, п. 1.
1СЗ, п. 10; ср.: 2СЗ, п. 4.
Об этом принципе напомнил папа Коптской Церкви Шенуда III в своей вступительной речи на втором пленарном заседании смешанной комиссии по диалогу (Анба-Бишой, 1989): Episkepsis. 422. 1989. P. 6.
См.: Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. T. II. 2. L’Église de Constantinople au VIe siècle. Paris, 1993. P. 107–108 (далее – Le Christ… T. II. 2).
Ibid.
Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 8–9.
Послания. 12 // PG 91, 473B–481A; 13 // PG 91, 513A–516C; 15 // PG 91, 561C–568A.
Точное изложение православной веры. III, 5 / Изд. Kotter. (Patristische Texte und Studien. 12). P. 118–119, 126–128 (далее – Точное изложение…).
1СЗ, п. 6.
2СЗ, п. 4.
2СЗ, п. 7.
См.: Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 346–369.
Denzinger, 302 [цит. по: Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. III. С. 48 (репр. с изд.: Казань, 1908); далее – Деяния…].
Halleux. Actualité... P. 492. Ср.: Grillmeier A. Jesus der Christus im Glauben der Kirche. T. I. Fribourg-en-Brisgau, 1989. P. 773–774.
ACO I, 1, 4. P. 15–20; франц. пер.: Éphèse et Chalcédoine. Actes des conciles / A. J. Festugière. Paris, 1982. P. 485–491.
Halleux P. A., de. La distinction des natures du Christ «par la seule pensée» au cinquième concile œcuménique // Persona si comuniune. Prinos de cinstire Parintelui Professor Academician Dumitru Staniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani [Mélanges Staniloae] / A. Plamadeala (éd.). Sibiu, 1993. P. 312.
Послание к Евлогию // ACO I , 1, 4. P. 35; Послание 1 к Суккенсу 7 // ACO I, 1, 6. P. 154; Послание 2 к Суккенсу 5 // ACO I, 1, 6. P. 161–162.
Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche // TU. 3. 1–2. Lpz., 1887. P. 47. С этой интерпретацией соглашается такой специалист наследия Кирилла, как Ж. М. де Дюран: Introduction à Cyrille d’Alexandrie // Deux dialogues christologiques. SC 97. Paris, 1964. P. 126–127, n. 1.
Многие их них собраны в Florilegium Cyrillianum, который был создан в Александрии около 482 г. (издано R. Hespel. Le Florilège cyrillien réfuté par Sévère d’Antioche. Étude et édition critique. Louvain, 1955).
См.: Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. T. I. De l’âge apostolique à Chalcédoine (451). Paris, 1973. P. 468, 470 (далее – Le Christ… T. I); см. также следующий раздел нашего исследования, в котором мы представим ссылки на творения Кирилла.
ACO I, 1, 6. P. 161.
ACO I, 1, 4. P. 36.
Op. cit. P. 470.
См.: Meyendorff J. Unité de l’empire et division des chrétiens. Paris, 1993. P. 197.
См.: Maraval P. Le christianisme de Constantin à la conquête arabe. Paris, 1997. P. 372.
Meyendorff J. Unité de l’empire et division des chrétiens. Paris, 1993. P. 191.
Ibid. P. 188; ср. P. 194. См. также: Он же. Chalcedonians and Non-Chalcedonians. The Last Steps to Unity // SVTQ. 33. 1989. P. 325; Romanidis J. S. St. Cyril’s «One Physis or Hypostasis of God the Logos Incarnate» and Chalcedon // GOTR. 10. 1964–1965. P. 89–91.
ACO IV, 1. P. 242; франц. пер.: Halleux P. A., de. La distinction des natures du Christ «par la seule pensée» au cinquième concile œcuménique. P. 313 [цит. по: Деяния… Т. III. С. 472]. Этот анафематизм V Вселенского Собора объединяет седьмой и восьмой анафематизмы эдикта Иустиниана 551 г.
Damaskinos, métropolite. Réponse... // Episkepsis. 521. 1995. P. 12.
Это развернуто доказывает A. de Halleux: La distinction des natures du Christ «par la seule pensée» au cinquième concile œcuménique. P. 312–318.
Ibid. P. 318.
Loofs F. Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche // TU. 3. 1–2. Lpz., 1887. P. 58.
1СЗ, п. 6.
Севир употребляет по этому поводу несколько выражений, которые не оставляют и тени сомнения относительно его намерения: ἐν θεωρίᾳ, τῇ θεωρίᾳ, τῇ ἑπινοίᾳ (умозрительно), τῇ φαντασίᾳ (в воображении).
Кстати, по поводу этого выражения можно задаться вопросом о том, каким образом Севир, рассматривающий «природу» и «ипостась» как синонимы, избегает несторианства (см.: Lebon J. Das Konzil… P. 518–519). Здесь мы видим один из многочисленных примеров, показывающих противоречивость его терминологии.
В следующем разделе.
Это, в частности, подчеркивает А. Гриллмейер (Le Christ… T. II. 2. P. 228–233).
См.: Meyendorff J. Le Christ dans la théologie byzantine. Paris, 1969. P. 51–52 (далее – Le Christ…).
Ibid. P. 52.
См., напр.: Послание к Сергию // CSCO. Syr. IV. 7. Louvain, 1949. P. 94.
См.: Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 438.
Ibid. P. 54.
Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 214.
The Byzantine Fathers of the Fifth Century // CWGF. T. VIII. Vaduz, 1987. P. 329–330 [цит. по: Флоровский Г. В., свящ. Византийские Отцы V–VIII [в.] (из чтений в Православном богословском институте в Париже). Париж, 1933. С. 31 (далее – Византийские Отцы)].
См.: Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 242–280; Chesnut R. C. Three Monophysite Christologies: Severus of Antioch, Philoxenus of Mabbug and Jacob of Sarug. Oxford, 1976. P. 9–12.
См.: 1СЗ, п. 5; 2СЗ, п. 1.
См.: Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 200–204.
«Итак, мы исповедуем Одного и Того же, единосущного Отцу по божеству и единосущного нам, ставши человеком» (Orationes ad Nephalium. 1 // CSCO. 119–120, syr. 64–65)
Renaudot. Liturgiarum orientalium collectio. T. 1. Frankfurt, 1847. P. 106.
Ж. Бесс (J. Besse) (La Foi des Églises orientales anciennes // MesO. 126. 1994–1995. P. 10), следуя мнению армянского епископа Терениг Поладиан (Térénig Poladian. La position des Églises non chalcédoniennes // Ibid. P. 72), утверждает, что халкидонское определение о соотношении природ не оставляет места для обожения, либо дает место лишь нравственному пониманию их отношений. Это утверждение явственно показывает полное незнание того, как этот вопрос понимается в халкидонской традиции. Очевидно, что автор путает халкидонскую традицию с несторианской, которую она опровергает. Ведь халкидонская терминология, наоборот, выражает подлинное обожение человеческой природы без слияния ее с природой божественной. См. по этому поводу наше исследование: «La Divinisation de l’homme selon saint Maxime le Confesseur». Paris, 1996.
1СЗ, п. 8; 2СЗ, п. 3.
Halleux. Actualité... P. 494.
Не так давно один из ведущих представителей нехалкидонских Церквей, Поль Вергез (P. Verghese), ставший с тех пор митр. Павлом Мар Грегорием, утверждал: «Мы не можем принять дифелитскую формулу, приписывающую волю и действие природам, а не ипостаси. Мы можем лишь утверждать единство соединенной и неслиянной богочеловеческой природы, воли и энергии Христа, Воплотившегося Слова. […] Мы считаем, что Лев [Великий] – еретик, ибо он учил о том, что воля и действие Христа должны быть отнесены к каждой из природ Христа, а не к единой ипостаси» (Ecclesiological Issues concerning the Relation of Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Church // GOTR. XVI. 1971. P. 140–141).
1СЗ, п. 2.
Durand G. M., de. Introduction à Cyrille d’Alexandrie // Deux dialogues christologiques. SC 97. Paris, 1964 (далее – Introduction…). P. 134. По поводу этой формулы, см. пространное исследование: Dries J., van den. The formula of St. Cyril of Alexandria μία φύσις τοῦ Λόγου σεσαρκωμένη. Rome, 1939.
См.: Послание 2 к Суккенсу // ACO I, 1, 6. P. 159, 160.
Durand G. M., de. Introduction… P. 135. Ср.: Loofs F. Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche // TU. 3. 1–2. Lpz., 1887. P. 42.
Кирилл Александрийский. Послание 2 к Суккенсу // ACO I, 1, 6. P. 160.
Durand G. M., de. Introduction… P. 135. Ср.: Loofs F. Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche. // TU. 3. 1–2. Lpz., 1887. P. 42.
Относительно значения этого термина у Кирилла (он уже здесь не является лишь синонимом ипостаси, но становится созвучен сущности), см.: Durand G. M., de. Introduction… P. 136, n. 1.
Durand G. M., de. Introduction... P. 136. См. сходную интерпретацию: Grillmeier A. Le Christ… T. I. P. 473.
Послания. 12 // PG 91, 477A–481A, 492D–497A, 501BC; 14 // PG 91, 536D–537A; 17, 584A.
Grillmeier A. Le Christ… T. I. P. 468.
Ibid.
См.: Толкование на книгу Левит // PG 69, 576B; Комментарий на воплощение Единородного // PG 75, 1381A, 1385C; Послание 2 Суккенсу // ACO I, 1, 6. P. 161–162.
Grillmeier A. Le Christ… T. I. P. 469–470. Ср.: Cyrille d’Alexandrie. Послание XL к Акакию Мелитинскому // ACO I, 1, 4. P. 27.
См.: Meunier B. Le Christ de Cyrille d’Alexandrie. L’humanité, le salut et la question monophysite. Paris, 1997. P. 256–264.
А. Гриллмейер показывает, каким образом Кирилл в некотором смысле предвосхищает Халкидонское определение: «Если мы рассмотрим, не ограничиваясь выражением mia physis, совокупность кирилловой терминологии, то увидим, что в ней содержится ряд формул, выражающих не только единство лица, но и различие природ [Против несториан. 2. 6 // ACO I, 1, 6. P. 43; Комментарий на воплощение Единородного // PG 75. 1385C; Апология против Феодорита // ACO I, 1, 6. P. 112]. Это показывает, что на самом деле Кирилл переносит единство Христа в личностную область, приписывая двойственность двум природам. В этом он предвосхитил различение, осуществленное Халкидонским Собором, и принял таким образом участие в закладке его богословского фундамента» (Grillmeier A. Le Christ… T. I. P. 473).
Meyendorff J. Le Christ… P. 20.
Damaskinos, métropolite. Réponse... // Episkepsis. 521. 1995. P. 14.
Les Conciles œcuméniques, 2. Les décrets. Paris, 1994. P. 260–263 (§ VIII).
1СЗ, п. 7.
Он посвятил свою диссертацию Филоксену Маббугскому.
1СЗ, п. 6–7; 2СЗ, п. 3.
Halleux. Actualité... P. 490.
1СЗ, п. 6.
Послание 3 к игумену Иоанну.
1СЗ, п. 6.
1СЗ, п. 10.
Именно это обычно утверждают монофизитские богословы, логически оправдывая таким образом монофелитство и моноэнергизм. Напр., Поль Вергез (митр. Павел Мар Грегорий), пишет по поводу «единой природы», приписываемой Христу: «Это одна-единственная ипостась, являющаяся теперь божественной и человеческой, и все действия [энергии] происходят от единственной ипостаси». Из этого следует вывод: «Мы не можем принять дифелитскую формулу [VI Вселенского Собора], приписывающую волю и действие природам, а не ипостаси» (GOTR. XVI. 1971. P. 140, 141; перепечатано в «Does Chalcedon Divide or Unite?». P. 134, 135; см. также прим. 87).
Напомним, что в православном богословии Слово, становясь человеком, воспринимает человеческую природу, но не человеческую ипостась (в противном случае Он был бы двуипостасный, как то утверждает несторианская ересь). Через Воплощение Его божественная ипостась становится уже не только ипостасью божественной природы, но и ипостасью природы человеческой (именно это стремится выразить неохалкидонское понятие «сложная ипостась»). То есть человеческая природа воипостазируется в Божественную ипостась Слова и соединяется в ней, неслиянно и нераздельно, с божественной природой, которая от века принадлежит этой божественной ипостаси.
1СЗ, п. 7.
Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 42.
Следовало бы называть это богословское течение скорее «открытым халкидонством» (в противовес «строгому халкидонству», дающему более узкое толкование Халкидона), чем «неохалкидонством». Такое предложение мы выдвигали еще в нашем исследовании: La Divinisation de l’homme selon saint Maxime le Confesseur. Paris, 1996. P. 304–307.
А. Гриллмейер пишет по этому поводу: «Севир, консерватор, использовавший налево и направо аргумент к преданию, особенно же в дискуссиях, касающихся Кирилла, позволил себе, пользуясь этим же аргументом, подкорректировать некоторых Отцов Церкви, полагая при этом, что эти действия правомерны» (Ibid. P. 108).
См.: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 107–116.
Это ему ставил в упрек еще святой Иустиниан, писавший по этому поводу: «Кто обладает таким авторитетом, что может себе позволить отвергнуть учение Отцов Церкви? На каком основании Севир отбирает тех Отцов, учение которых должно быть отвергнуто? […] На самом деле он утверждает, что учения Отцов Церкви должны быть отвергнуты […] по той причине, что он хочет отстоять свою собственную болезнь» (Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 32).
См.: Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 212–233.
Как характерны в этом смысле слова уже приведенной формулы 2СЗ (п. 7): «Восточные православные согласны, что православные имеют право применять формулировку “две природы”, поскольку они понимают это выражение “в одном воображении”».
К сожалению, факты подтверждают это. Один православный, часто бывающий в Египте по работе, рассказывал нам, что недавно нашел в коптских храмах брошюры, подписанные патриархом Шенудой III, содержание которых было явно антихалкидонским.
Так говорил Максим Исповедник по поводу другого диалога.
Послание к Асотию, против ереси теопасхитов. (Послание 284 в издании: Photius. Epistulae et Amphilochia / B. Laourdas, L. G. Westerink. T. III // BSGRT. Leipzig, 1985; далее – Photius)
К перечисленным Отцам можно было бы добавить еще длинный список достойнейших богословов.
Уже после того как мы пришли к этому выводу, мы нашли подобное рассуждение у отца Георгия Флоровского: «Вряд ли можно думать, что Севир, в частности, не умел понять Халкидонской терминологии, – что он не сумел бы понять, что “синодиты” иначе употребляют слова, чем он, но в содержании веры не так уж далеко от него уходят» (The Byzantine Fathers of the Fifth Century // CWGF. T. VIII. Vaduz, 1987. P. 329 [Цит. по: Флоровский Г. В., свящ. Византийские Отцы. С. 31].
Исследуя историю, мы видим, что встречи и диалог между Православной и нехалкидонскими Церквами происходили почти беспрерывно.
Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 36.
Он сам об этом пишет в OTP. 3 // PG 91, 49C (далее – OTP).
См. ниже.
См. ниже.
См.: Larchet J.-Cl. Introduction à Maxime le Confesseur // Maxime le Confesseur. Lettres. Paris, 1998. P. 8–25; Он же. Introduction à Maxime le Confesseur // Opuscules théologiques et polémiques. Paris, 1998. P. 16–108 (passim).
См.: Zisis Th. Святой Иоанн… P. 1133–1144.
Среди других византийских богословов, отвергавших севирианское богословие, можно назвать: Нефалия (см.: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 74–81), Иоанна Кесарийского, прозванного «Грамматиком» (Ibid. P. 81–116), Леонти яВизантийского (Ibid. P. 247–309), Ипатия Ефесского (Ibid. P. 311–335), Евстафия (Ibid. P. 354–364), Леонтия Иерусалимского (Ibid. P. 365–415).
Ж. Лебон пишет: «Научную христологию, изложенную в технических терминах, дал монофизитам знаменитый антиохийский патриарх Севир. Плоды его трудов изложены в пространных творениях, которые стали как бы официальными учебниками и арсеналом оппозиции Халкидонскому учению. Начиная с Севира и его творений, монофизитское богословие Воплощения как бы застывает в принципиальной форме, которая больше не изменится. […] На наш взгляд, нет никакой необходимости в исследовании монофизитского учения до вероучительных трудов Севира Антиохийского; думается, что исследование и более поздних памятников не представляет какого-либо интереса – в них лишь постоянно повторяются одни и те же обвинения в сторону халкидонитов. При Севире и его современниках монофизитское учение было настолько ясно изъяснено и его догматика настолько четко выражена, что никогда позднее оно не достигнет большего совершенства в полемике с дифизитской христологией» (Das Konzil… P. 425–426). См. также: Он же. Le monophysisme sévérien. P. 118–119, 236–237.
Севир Антиохийский является главным богословским авторитетом яковитской Церкви (сирийской – позднее она также распространилась в Индии), а также коптской (со времени бегства Севира в Египет и его пребывания там в 518 г.). Армянская же Церковь по-разному относилась к Халкидонскому Собору и к Севиру Антиохийскому. Относительно вопроса о нетлении тела Христова она встала на сторону еще одного учителя монофизитской христологии – Юлиана Галикарнасского. Впрочем, это не помешало ей пребывать по другим вопросам в согласии с севирианской христологией и в целом оставаться верной монофизитскому течению, последователями которого являются Севир и Юлиан. В частности, творчество Тимофея Элура получило широкое распространение в Армении и имело большое влияние на армянскую христологию. Армянская Церковь, как в прошлом, так и в настоящем, находится в совершенном единстве веры с другими нехалкидонскими Церквами и защищает ту же христологию, что и они. По всем этим вопросам см. наше исследование: À propos du statut de l’Eglise arménienne dans le cadre du dialogue entre les Églises orthodoxes et les Églises non chalcédoniennes // MesO. 138. 2003. P. 37–58.
См. 2СЗ, п. 10: «[Мы] предлагаем нашим Церквам следующие пункты: 1) православные должны снять все анафемы и осуждения против всех Восточных Православных Соборов и Отцов, которых они анафематствовали и осудили в прошлом». При этом, естественно, православные, подписавшие «Заявление», включают Севира в число православных Отцов. Равным образом в число православных Соборов включены нехалкидонские соборы, противоречащие Халкидонскому и последующим Вселенским Соборам. См. также: Propositions pour la levée des anathèmes, texte adopté à l’issue de la quatrième session (Chambésy, 1–6 novembre 1993), texte de la version anglaise originale (4 p.).
См.: Le Synaxaire arabe jacobite // PO. T. I. Mois de Babeh, n. 3. Paris, 1907. P. 313; T. III. Mois d’Amchir, n. 56. Paris, 1915. P. 823–825.
Le monophysisme sévérien. Louvain, 1909; Das Konzil… P. 525–580.
Monophysisme // DTC. T. 10. Paris, 1929. Col. 2221–2228.
Sévère d’Antioche // DTC. T. 14. 1939. Col. 1999–2000.
Christology after Chalcedon: Severus of Antioch and Sergius the Monophysite. Norwich, 1988.
R. Draguet, в своей диссертации (Julien d’Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d’Antioche sur l’incorruptibilité du corps de Christ. Louvain, 1924) стремится доказать, что его воззрение безусловно православно!
Именно на основании таких рассуждений 11 ноября 1994 г. был подписан договор между патриархом Ассирийской Восточной Церкви (несторианской) Мар Денха IV (Mar Denkha IV) и папой Иоанном-Павлом II. Предполагается, что этот договор находится в перспективе, лежащей «до христологических разделений, развившихся на Ефесском Соборе 430 г.», и имеет своей целью способствовать продвижению «к полноте общения». Относительно содержания более позднего диалога и заключений, см.: Istina. XLIII. 1998. P. 1–256. Можно смело предположить, что рано или поздно некоторые Православные Церкви последуют этому примеру Рима и устремятся к единству с той Церковью, которую, наверное, надо будет называть для начала «не-ефесской» или «до-ефесской», а затем и «весьма древней Восточной Церковью». Уже видны первые признаки такого движения: Оливье Клеман в недавней статье выражает сожаление о том, что «сближение [Православной Церкви с нехалкидонскими Церквами] совершается в оппозиции Несторию, чью мысль западные историки уже не рассматривают как еретическую» (Contacts. 51. 1999. P. 205). И тогда останется лишь одно дело – провести объединение с многочисленными «доникейскими» сектами, которые – во имя того, что, вероятно, назовут терминологическим недоразумением (ведь в Священном Писании этого термина нет) – не могут принять учения о Троице!
Попутно выразим удивление по поводу того, что католические и протестантские патрологи стремятся реабилитировать тех, кого Церковь в течение пятнадцати веков рассматривала как еретиков, а одновременно – всячески пытаются доказать неправославие таких Отцов Церкви, которых Православная Церковь считает столпами своего учения и духовного делания: святых Макария Египетского и Симеона Нового Богослова (обвиняемых в мессалианстве), святого Григория Паламы. Подчеркнем, что во главе тех, кто обвиняет богословие святого Григория Паламы в неправославии, находится тот самый М. Жюжи, что провозглашает православие Севира Антиохийского.
В том числе – «православными»: среди них можно назвать митр. Дамаскина (Папандреу), который, в частности, пишет: «Диоскор и Севир остались верны христологическому учению святого Кирилла»; они «были осуждены не потому, что впали в монофизитскую ересь, но потому, что не приняли IV Вселенский Собор» (Episkepsis. 521. 1995. P. 14–16). Можно также вспомнить диссертацию, защищенную в 2002 г. в университете г. Салоники: Nicolopoulos I. Th. Ἡ Χριστολογία τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας καί ὁ Ὅρος τῆς Χαλκηδόνας [Христология Севира Антиохийского и Халкидонское исповедание веры].
См.: Gieseler J. C. L. Commentatio, qua Monophysitarum veteru errores ex eorum scriptis recens editis praesertim illustrantur. 2 vol. Göttingen, 1835, 1838; Dorner J. A. Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi. 2 vol. 2-e éd. Stuttgart и Berlin, 1845 и 1853; Harnack A. Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3e éd. T. II. Fribourg и Leipzig, 1894; Loofs F. Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche // TU. 3. 1–2. Lpz., 1887; Junglas P. Leontius von Byzanz // FCLDG. T. 7. № 3. 1908. Несмотря на то, что этот вопрос требует нового рассмотрения, современных исследований ему посвящено мало. Впрочем, мы можем отослать к неопубликованной дипломной работе сестры Серафимы Константиновска (Seraphima Konstantinovska), защищенной в Сергиевском Институте в Париже: «What Light is Thrown upon the Possibility of Reconciliation between the Chalcedonian and Monophysite Churches, by a Comparison of the Christological Teaching of St. Cyril of Alexandria with that of Severus of Antioch?». Упомянутая выше диссертация И. Николопулуса была опровергнута иеромонахом Лукасом Григориатисом [Loukas Grigoriatis] в работе: Διόσκορος καί Σεβῆρος, οἱ ἀντιχαλκηδονίοι αἱρεσιάρχαι. Κριτική δύο διδακτορικῶν διατριβῶν [Диоскор и Севир – антихалкидонские ересиархи. Критика двух докторских диссертаций]. Гора Афон, 2003. P. 95–216.
Constantinople II et III. Paris, 1974. P. 47, note 3.
См.: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. Paris, 1993. P. 216.
В частности, можно назвать: последователей Диоскора, сторонников Энотикона, акефалов, апосхистов, юлианитов или гаианитов, афтартодокетов, актиститов, агноитов, ниовитов, тритеитов (позднее разделившихся на филопонитов, кононитов, петритов и кондовавдитов). См.: Jugie M. Monophysisme // DTC. T. 10. Paris, 1929. Col. 2241–2249; Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. T. II. 4. L’Église d’Alexandrie, la Nubie et l’Éthiopie après 451. Paris, 1996 (passim) (далее – Le Christ… T. II. 4).
Вызывает удивление аргументация митр. Дамаскина в его ответе Святогорскому братству (Episkepsis. 521. 1995. P. 14): «Хотя мы рассматриваем как “умеренное монофизитство” смягченную формулировку крайних воззрений Евтихия, такое выражение не засвидетельствовано в источниках. Ересь либо является ересью, либо нет». То, что оно умеренно, вовсе не мешает монофизитству быть ересью. И в глазах Отцов Церкви и церковного Предания оно действительно является ересью, хотя бы они и называли его по-другому, о чем нами только что было сказано.
2СЗ, п. 7.
См. ниже.
Damaskinos, métropolite. Réponse... // Episkepsis. 521. 1995. P. 15.
Послание к Асотию, против теопасхитов (Photius. Послание 284).
См.: Mansi. T.VIII. 817C–819E; ACO IV, 2. P. 169–171.
Mansi. T. VIII. 873 s. По поводу этого синода см.: Grumel V. Les Regestes des Actes du patriarcat de Constantinople. I, 1. Kadikoy-Istambul, 1932, n. 233–238; Hefele-Leclercq. Histoire des conciles. II, 2. P. 1142–1155; Schwartz E. Zur Kirchenpolitik Justinians // Gesammelte Schriften. T. IV. P. 287–290; Murphy F.-X., Sherwood P. Constantinople II et III. Paris, 1974. P. 70.
См.: Devresse R. Le cinquième concile et l’œcuménicité byzantine // Miscellanea Giovanni Mercati. T. 3. Cité du Vatican, 1946. P. 1–6, 14–15, а также А. де Аллё – последний пишет: «Согласно древнему греческому историографическому и каноническому преданию, этот Собор [Второй Константинопольский] включает в себя не только Собор 553 г., анафематствовавший сторонников “Трех Глав”, но и синод 536 г., осудивший Севира Антиохийского и его сторонников – монофизитов» (Halleux. Actualité... P. 499, n. 94).
Ср.: Schwartz E. Zur Kirchenpolitik Justinians // Gesammelte Schriften. T. IV. P. 288: «Факт его созыва императором и присутствие представителей апостольского престола [то есть Рима] поставили его намного выше уровня простого синода эндимуса [постоянного] – почти на уровень Вселенского Собора». Помимо пребывающих в Константинополе епископов и легатов папы Агапита, в этом синоде участвовали диаконы и апокрисиарии Антиохийского и Иерусалимского Патриархов, а также митрополиты Каппадокии Первой, Галатии Первой и Ахайи.
Canon 18 // Denzinger, 518–520.
Les Conciles œcuméniques. T. 2. Les décrets. Paris, 1994. P. 282–283 [цит. по: Деяния… Т. IV. С. 220–221].
Ibid. P. 302–303 [цит. по: Деяния… Т. IV. С. 590].
В Русской Православной Церкви обычай чтения Синодика (только при архиерейском Богослужении) сохранялся до 1763 г. – Ред.
Так называются сирийские монофизиты со времени монаха Иакова (490–578), прозванного Барадеем (то есть оборванцем или попрошайкой), который был избран епископом в Сирии (около 542–543 гг.) и дал организацию живущей там монофизитской группе, снабдив ее иерархией и создав из нее собственно Церковь.
Le Synodikon de l’Orthodoxie // Travaux et mémoires du Centre français d’études byzantines / Éd. J. Gouillard. T. 2. Paris, 1967. P. 84–85.
Более полное исследование этого вопроса можно найти в: «Церковная гимнология о православной христологии и об антихалкидонитах» (на греч.) // Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ὀρθόδοξοι; [Православны ли антихалкидониты?]. Гора Афон, 1995. P. 129–171.
Эти и другие тексты находятся в июльской Минее [Минея: Месяц июль. М., 1996. С. 311, 313, 314, 321, 318].
См.: Damaskinos, métropolite. Réponse... // Episkepsis. 521. 1995. P. 15, 16.
См.: Zisis Th. Святой Иоанн… P. 1137.
Максим Исповедник. Послания. 13 // PG 91, 532.
Феодор Студит. Antirrhetica. 2, 18 // PG 99, 364.
Максим Исповедник. OTP. 20 // PG 91, 245.
Ibid. 9 // PG 91, 128.
Максим Исповедник. Ambigua. 5 // PG 91, 1056–1060.
Pelikan J. La tradition chrétienne. T. II. L’esprit du christianisme oriental (600–1700). Paris, 1994. P. 9–10, 20–22 (далее – La tradition…).
Здесь речь скорее идет о выводе из путаного языка Севира, чем о идее, которую он действительно проповедовал. Однако триадология Иоанна Филипона и некоторых других антихалкидонских богословов является реальным примером того, что эта путаная терминология может действительно привести к тритеизму.
Кирилл Скифопольский. Житие св. Саввы. LVI / Изд. E. Schwartz. Leipzig, 1939. P. 149 (далее – Житие св. Саввы); франц. пер.: Paris, 1962. P. 78. [цит. по: Палестинский патерик. Житие преподобного Саввы Освященного. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 230–231 (далее – Палестинский патерик)].
Это именование пришло из Египта, где бескомпромиссные монофизиты перестали признавать власть своего патриарха Петра Монга, лишь только он признал Энотикон, который они сочли недостаточно строгим.
Так называли в Палестине тех, кто отделялся от Церкви после Халкидонского Собора по причине единства с монофизитством.
Кирилл Скифопольский. Житие св. Саввы. LVII. P. 154–155; франц. пер.: Paris, 1962. P. 83– 84 [цит. по: Палестинский патерик. С. 235–236].
Критич. изд.: H. Usener. Der heilige Theodosios. Schriften des Theodoros und Kyrillos. Leipzig, 1890 (далее – Usener); франц. пер.: A.-J. Festugière, Les Moines d’Orient. III. 3. Les Moines de Palestine, Paris, 1963. P. 103–160 (далее – Festugière).
Usener. P. 60–61; Festugière. P. 135–136.
Usener. P. 63; Festugière. P. 137.
Usener. P. 64–65; Festugière. P. 138.
Usener. P. 65–68; Festugière. P. 138–140.
Греч. текст находится в PG 87, 2851–3116; франц. пер. был опубликован в SC 12. Среди других агиографических текстов, содержащих осуждение Севира, можно еще назвать Синаксарь на память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского (3 декабря), святого Евтихия, патриарха Константинопольского (6 апреля), святого Агапита, папы Римского (17 апреля). Все эти тексты могут быть найдены в антологии: Ἡ αἵρεσις τῶν μονοφισιτῶν Ἀντιχαλκηδονίων. Διηγήσεις ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων. Салоники, 1997.
Критич. изд.: E. Schwartz. Drei dogmatische Schriften Iustinians. Münich, 1939. P. 7–43.
См., напр.: Против монофизитов / Изд. Schwartz. Op. cit. P. 16.
См., напр.: Ibid. P. 8.
Ibid. P. 10. Ср. p. 34.
Ibid. P. 10, 11, 18, 23, 32, 36.
Ibid. P. 10, 11, 18, 23.
Ibid. P. 11.
Ibid. P. 9, 10, 16, 19, 20, 23, 36.
Ibid. P. 7.
Ibid. P. 8–10, 20–21.
Ibid. P. 19–21.
Ibid. P. 10–11, 17–18.
Ibid. P. 11–12.
Ibid. P. 16–19, 23–24, 27, 31, 39, 40, 43.
Ibid. P. 31–40, 43.
Строгую критику Севира можно также найти в OTP: 2 // PG 91, 40A–45B; 3 // PG 91, 49C–56D; 16 // PG 91, 204D; 19 // PG 91, 220D-221A; 21 // PG 91, 252A–256D; 24 // PG 91, 269A.
Он ясно обозначает как еретические египетские и сирийские общины, исповедовавшие севирианскую христологию (см.: Послания. 12 // PG 91, 464D, 465C). Более того, он считает их крещение недействительным (см.: Послания. 12 // PG 91, 464B).
Послания. 12 // PG 91, 501D; 15 // PG 91, 568C; OTP. 2 // PG 91, 40C; 3 // PG 91, 49C.
См.: Послания. 13 // PG 91, 525B.
См.: Ibid. 12 // PG 91, 501D; 15 // PG 91, 569B. Манихейския христология была докетичной.
См.: Ibid. 15 // PG 91, 568D; OTP. 2 // PG 91, 40B, 41A–44C; 3 // PG 91, 56C: «Таким образом, нечестивое намерение Нестория и Севира – едино, хотя способы его осуществления – разные. Первый, бегая от единства по ипостаси, через [учение о] слиянии превращает различие по сущности в разделение лиц; второй же, отказываясь от различия по сущности, через [учение о] разделении превращает ипостасное соединение в слияние природ». Таким же образом Максим проводит параллель между Аполлинарием и Несторием (Послания. 12 // PG 91, 480C, 493C; 13 // PG 91, 521D–524A; 14 // PG 91, 536D–537A; 13 // PG 91, 568B, 568CD).
Подробное изложение см. в наших предисловиях к: Maxime le Confesseur. Lettres. Paris, 1998. P. 8–25, и к: Maxime le Confesseur. Opuscules théologiques et polémiques. Paris, 1998. P. 18–108 (passim).
Послания. 12 // PG 91, 473B–476D, 485A–C; 13 // PG 91, 513A–516D, 517D, 524B–D; 14 // PG 91, 536C; 15 // PG 91, 561C–565C, 573A, CD.
См.: OTP. 22 // PG 91, 257A–269D.
См., напр.: Ibid. 3 // PG 91, 49C.
См.: Послания. 12 // PG 91, 485BC; 15 // PG 91, 569D–572B.
OTP. 21 // PG 91, 252A–260C.
Максим часто обличает софизмы, присущие севирианской мысли, и то, как святоотеческие цитаты в ней используются против их значения. См. в частности: OTP. 21 // PG 91, 252A, C.
См. также: Ibid. 21 // PG 91, 252D–253C, где Максим, в частности, указывает, что Севир «манипулирует, искажает и отрицает подлинное учение Кирилла, что равнозначно отрицанию учения испытанных Отцов».
Послания. 12 // PG 91, 477A–481A, 492D–497A, 501BC; 14 // PG 91, 536D–537A; 16 // PG 91, 584A.
Это показывает А. Гриллмейер (Le Christ… T. II. 2. P. 224–225).
По поводу этого понятия см. наше предисловие к: Maxime le Confesseur. Lettres. Paris, 1998. P. 21–22, а также другие тексты самого Максима: Послания. 12 // PG 91, 489C, 492D–493A; 13 // PG 91, 525D–529A; 15 // PG 91, 556D.
См.: Ibid., 12 // PG 91, 488C–489B; 13 // PG 91, 516D–520C, 529A–532C.
Он об этом совершенно ясно говорит в OTP. 2 // PG 91, 40A и C.
См., напр.: Послания. 15 // PG 91, 568C–569D.
Ibid. 15 // PG 91, 568C–569B.
Вступительное слово на третьей встрече Смешанной комиссии по диалогу (Шамбези, 23–28 сентября 1990 г.) // Episkepsis. 446. 1990. P. 6. Эту мысль повторит Ж. Марцелос (G. Martzelos) (Ὀρθοδοξία καί αἵρεση τῶν Ἀντιχαλκηδονίων κατά τόν ἅγ. Ἰωάννη τό Δαμασκηνό // Θεολογία. 75. 2004. P. 596–609; франц. пер.: Le refus de Chalcédoine exclut-il de l’orthodoxie? // Chemins de la christologie orthodoxe / A. Argyriou (éd.). Paris, 2005. P. 191–207), придав ей весьма сумбурное развитие и аргументацию. Они были остроумно разобраны архимандритом Георгием (Капсанис): Ἡ ἰδεολογική “ὀρθοδοξία” τῶν Ἀντιχαλκηδονίων. Ἀπάντησις σέ ἀπόψεις τοῦ καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Μαρτζέλου. Григориат. Гора Афон, 2005. 89 p.
Liber de haeresibus. 83 // PG 94, 741A–744A; Die Schriften des Johannes von Damaskos / Édition critique de B. Kotter. (Patristische Texte und Studien. 22). P. 49–50 [цит. по изд.: М.: «Индрик», 2002. С. 141].
Касательно превратного употребления текстов святого Иоанна Дамаскина сторонниками унионального проекта см. уже процитированную статью: Zisis Th. Святой Иоанн… P. 1133–1144.
Meyendorff J. Le Christ… P. 209–210.
См. в частности: Zisis Th. Op. cit. P. 1139–1141.
Точное изложение… III. 3. P. 111–116 [цит. по изд.: М.: «Индрик», 2002. С. 237–240].
Ibid. P. 113–114 [цит. по изд.: М.: «Индрик», 2002. С. 238].
Напомним, что и несториане, и монофизиты считают термины «природа» и «ипостась» синонимами. Однако эта синонимия определяется ими по-разному: несториане полагают, что раз есть две природы, значит, есть и две ипостаси; монофизиты же считают, что раз существует одна ипостась, значит, есть и лишь одна природа.
См.: Точное изложение… III. 3. P. 112.
Ibid. P. 116–162.
Die Schriften des Johannes von Damaskos / Изд. B. Kotter. T. IV (Patristische Texte und Studien. 22). P. 109–153.
Ibid. P. 173–231.
Ibid. P. 304–332.
Ibid. P. 409–417.
Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 36.
См. в частности: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 47, 223, 229, 237. Ж. Лебон и сам это многократно признает по ходу своего исследования «Le monophysisme sévérien».
Это остается верным и поныне. Так, в недавнем номере журнала «Le Monde copte» (19.07.1991. С. 141) проф. Рахад Мунир Шукри (Rachad Mounir Shoucri) выступил в защиту Евтихия со следующими словами: «В том, что касается событий Халкидонского Собора (541), а особенно – точки зрения монаха Евтихия, можно ли с неоспоримой достоверностью установить на основании исторических документов, что он защищал точку зрения, противную исповеданию веры святого Кирилла? Ведь существует документы, противоречащие такому толкованию. […] В этих документах Евтихий предстает еще более православным, нежели Флавиан Константинопольский».
В наши дни эта точка зрения нашла поддержку у А. Гриллмейера: «Нет сомнений в том, что Севир уже содействует развитию моноэнергистского-монофелитского кризиса VII века» (Le Christ… T. II. 2. P. 210).
Но также и его предшественников, система которых не столь развита: Филоксена Мабуггского, Тимофея Элура.
Критические замечания А. Гриллмейера сосредоточены главным образом на этом пункте. См.: Le Christ… T. II. 2. P. 228–238.
См.: Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 450.
Ibid. P. 464.
Напомним, что по православному учению воля является свойством природы. Поскольку во Христе две природы, то у Него и две энергии и две воли: одна – божественная энергия и воля и одна – человеческая энергия и воля. Это не противоречит тому, что Он является (единственным) субъектом этих обеих энергий и обеих воль.
Ibid. P. 450, 461.
См. в частности: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 228–238.
Тем более ключевого, что еще недавно некоторые нехалкидонские богословы утверждали, что никогда не смогут принять дифелитство или диэнергизм. Напр., Поль Вергез (митр. Павел Мар Грегорий), писал: «Мы не можем принять дифелитскую формулу [VI Вселенского Собора], приписывающую волю и действие природам, а не ипостаси»; «мы не можем повторять слова этого Собора, когда он провозглашает “две воли и два действия содействующие вместе”» (GOTR. XVI, 1–2, 1971. P. 140–141; перепечатано в «Does Chalcedon Divide or Unite?». P. 134–135; см. также прим. 87).
Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 228–229.
Ibid. P. 230, 232, 233, 236.
Ibid. P. 237.
The Byzantine Fathers of the Fifth Century // CWGF. T. VIII. Vaduz, 1987. P. 330 [цит. по: Флоровский Г. В., свящ. Византийские Отцы. С. 32].
Такое понимание и по сей день присуще нехалкидонским богословам. См. вступительную речь папы Коптской Церкви Шенуды III на втором пленарном заседании Смешанной комиссии по диалогу (Анба-Бишой, 1989) // Episkepsis. 422. 1989. P. 6.
Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 223–224.
Как это отмечено А. Гриллмейером: «Парадигма тело-душа, в которой Севир видел самую выразительную аналогию, спотыкается именно на этом пункте: ибо, поскольку они являются неполными естественными частями, соединение тела и души в одну природу означает и появление новой абстрактной сущности (ousia)» (Ibid. P. 227).
Lebon J. Le monophysisme sévérien. P. 324.
См.: Ibid. P. 345–346.
См.: Ibid. P. 371–372.
По поводу этих колебаний и непоследовательностей в богословии Тимофея Элура см.: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 4. P. 62–65.
При всей своей симпатии к севирианству и склонности, вслед за Ж. Лебоном, видеть в нем «словесное монофизитство», М. Жюжи отмечает: «несмотря на то, что для сохранения единства Христа эта терминология являлась радикальным средством […], во многих других отношениях она представляла значительные неудобства. Поражая несторианство в самое сердце, она при этом могла скрывать за собой и любые формы действительного и еретического монофизитства. Она нарушала гармонию и единство уже принятого как на Западе, так и на Востоке богословского языка. Термин Physis в триадологии получил совершенно определенное значение, отличное от значения терминов hypostasis и prosôpon. Ненормально было одновременно в плане theologia [то есть в учении о Святой Троице] понимать под physis природу, и в плане oikonomia [то есть в икономии, относящейся к Воплощению Слова] понимать под ней лицо и ипостась. Более того, непрестанно созерцать в Иисусе Бога не таит ли в себе опасность оставить в тени человека? Это исключительное созерцание Бога Слова, содержащего под своей дланью человеческую природу, могло в конце концов привести к мысли о том, что эта последняя природа является простым автоматом, лишенным всякой самопроизвольности, свободы, подлинно человеческого действования. История показала, что эта опасность была не иллюзорной» (Monophysisme // DTC. T. 10.2. Paris, 1929. Col. 2217–2218).
См.: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 47: «На александрийской традиции древнего Востока лежала огромная тяжесть, связанная с идеологией mia physis, основанной на аполлинарианских подлогах; […] Севир не сумел избавиться от этой тяжести. Он был к этому неспособен, вероятно, потому, что не был готов осмыслить в какой бы то ни было форме тот путь, который был открыт Халкидонской терминологией. Таким образом, он сам себе закрыл доступ к проясняющей проблематике, состоящей в том, чтобы указать, в чем и как определяется единство Христа, а затем – в чем и как определяется различие в Нем между Богом и человеком». См. также в предыдущей части этого исследования раздел под названием: «Un éclaircissement du problème manqué». P. 212–214.
См.: Meyendorff J. Unité de l’empire et division des chrétiens. Paris, 1993. P. 190–191.
«Мы не говорим ни “слияние”, ни “разделение”, ни “изменение”. Анафема тому, кто говорит “слияние”, “разделение” или “смешение”» (Mansi. T. VI. Col. 676).
См.: Bareille G. Dioscore // DTC. T. 4. 1911. Col. 1373–1374.
Среди них можно назвать кражу общецерковных средств, использование в личных целях припасов, заготовленных для нищих, угрозы смертью, попытку убийства (диакона Исхириона), убийство (патриарха Константинопольского Флавиана, скончавшегося вследствие пыток, понесенных им от Диоскора) – то есть дел, мало совместимых со святостью, которую нехалкидониты приписывают этой одиозной личности, чьи мощи они почитают и до сего дня. См.: Ibit. Col. 1370 и: Actes du procès de Dioscor // Schwartz. Concilium Chalcedonense. I. 2. § 1–42; франц. пер. A.-J. Festugière (éd.). Éphèse et Chalcédoine. Actes des conciles. Paris, 1982. P. 845–895, (passim).
Об этом очень важном сочинении, имевшем большое распространение в конце VI века в Константинопольском Патриархате, но автор которого до сих пор однозначно не идентифицирован, см.: Grillmeier A. Le Christ… T. II. 2. P. 641–652.
Такая точка зрения была высказана епископом Анатолием: сторонники реабилитации Диоскора цитируют именно его высказывания, а не те, которые мы приведем в следующем параграфе.
De sectis. 6 // PG 86, 1233B–1237D; в критич. изд. F. Diekamp (Doctrina Patrum. 2e éd. Munster, 1981) – с. 177–179.
Damaskinos, métropolite. Réponse... // Episkepsis. 521. 1995. P. 15.
В 2000 г. в Солунском университете была защищена диссертация, автор которой попытался доказать, что богословские построения Диоскора во всем следовали христологии Кирилла Александрийского (Kesmiris E. D. Ἡ Χριστολογία καί ἡ ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ Διοσκόρου Ἀλεξανδρείας [Христология и церковная политика Диоскора Александрийского]). Опровержение на эту диссертацию составил иеромонах Лукас Григориатис. Διόσκορος καί Σεβῆρος, οἱ ἀντιχαλκηδονίοι αἱρεσιάρχαι. Κριτική δύο διδακτορικῶν διατριβῶν [Диоскор и Севир, антихалкидонские ересиархи. Критика двух докторских диссертаций]. Гора Афон, 2003. P. 27–94. См. также суровую критику со стороны Д. Тселенгидиса [D. Tseleggidis], профессора догматики в Солунском университете: Ἐπιστημονική κριτική μιᾶς διδακτορικῆς διατριβῆς // ΓΠ. 792. 2002. P. 308–316.
Цитируется Иустинианом в: Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 24.
Schwartz. Concilium Chalcedonense. I. 2. § 5; франц. пер.: A.-J. Festugière (éd.). Éphèse et Chalcédoine. Actes des conciles. Paris, 1982. P. 851–852.
Ibid. § 47; франц. пер.: P. 861.
Ibid. § 57; франц. пер.: P. 867.
Liber de haeresibus. 83 // PG 94, 744A; Die Schriften des Johannes von Damaskos // Patristische Texte und Studien / Критич. изд. B. Kotter. № 22. P. 49–50. [рус. изд.: М.: «Индрик», 2002. С. 141].
Cyrille de Scythopolis. Житие св. Саввы. LVI. P. 147; франц. пер.: Paris, 1962. P. 75. [Палестинский патерик. С. 229].
Ibid. LVI. P. 149; франц. пер.: Paris, 1962. P. 78. [Палестинский патерик. С. 230; см. также выше, раздел B.VIII.4.b.1 и прим. 178].
Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 24, 27 (см. в частности с. 27: «Диоскор и Тимофей Элур – еретики, ибо они явно разделяют воззрения манихеев и Аполлинария»).
См.: De sectis // PG 86, 1217–1228 (passim).
О принятии еретиков // PG 86, 52, 56–68 (passim).
Hodègos / Изд. Uthemann // CCSG 8. P. 91, 94, 98, 100, 105, 135, 136, 198, 211, 256, 260, 304, 318.
Соборное послание // PG 87, 3186B, 3190C.
Послание папе Льву III // PG 100, 192D.
«Послание к армянам» в статье: Darrouzès J. Deux lettres inédites de Photius aux Arméniens // REB. 29. 1971. P. 162–170 (далее – Послание к армянам) (Photius. Послание 285. P. 98–112).
См.: ACO III, 126. P. 178–180.
См. приведенный выше текст.
Собор заявил о своем согласии с «Собором шестиста тридцати Богодухновенных Отцов, собравшихся в Халкидоне против ненавистных Богу Евтихия и Диоскора» (Les Conciles œcuméniques, 2. Les décrets. Paris, 1994. P. 278–279).
См. приведенный выше текст.
См. приведенный выше текст.
Эти и другие тексты находятся в июльской Минее [Минея: Месяц июль. М., 1996. С. 316, 318]; см. также выше, раздел B.VIII.3 и прим. 168.
Богословские воззрения Тимофея Элура опровергаются, в частности, святым Иустинианом (Против монофизитов / Изд. Schwartz. P. 24–27).
См. в частности: De sectis // PG 86, 1928–1937; Софроний Иерусалимский, св. Соборное послание // PG 87, 3190C–3193A: «Вечная анафема: Диоскору, защитнику Евтихия, Тимофею Элуру, Петру Монгу, Акакию, Зенону, Петру Гнафевсу, Петру Иверу, Севиру и акефалам, Феодосию Александрийскому, Анфиму Трапезундскому, Иакову Баррадею, Юлиану Галикарнасскому, Гаю Александрийскому, Иоанну Филопону, Фемистию, Петру Сирийцу, Сергию Армянину […]»; Анастасий Синаит. О ересях // Pitra. Juris eccesiastici Graecorum. Rome, 1868. P. 257–271; Doctrina patrum / Изд. Diekamp. P. 269–270; Герман Константинопольский, св. О ересях и Соборах // PG 98, 72C–73A.
См., напр., заявления представителей нехалкидонских Церквей в ходе третьей консультации в Женеве (1970), опубликованные в GOTR. 16. 1971. P. 30–34: «Не ждите – мы Халкидон не примем» (о. Абте Мариам [P. Habte Mariam] – Церковь Эфиопии); «давайте будем говорить с полной ясностью: для нас Халкидон неприемлем» (митр. Севир Закка Ивас [Zakka Iwas] – Церковь Сирии); «не должно быть никакого сомнения по поводу точки зрения нехалкидонских Церквей: никогда не будет какого-либо формального признания Халкидона» (о. Поль Вергез, будущий митр. Павел Мар Грегорий – Церковь Индии).
По поводу этой формулы и ее значения см.: Florovsky G. St. Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers // CWGF. T. I (Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View). Belmont, 1972. P. 105–107). Pelikan J. La tradition… P. 9–39 [рус. пер.: Святитель Григорий Палама и традиция отцов // Флоровский Г., прот. Догмат и история. М.: Свято-Владимирское Братство, 1998. С. 377–393].
Le Dossier préparatoire du dialogue théologique avec les Églises anciennes d’Orient. Supplément au S.O.P. № 61. 1981. P. 2, 4.
К слову, напомним, что понятие «неразделенная Церковь», широко применяемое в ходе всевозможных экуменических контактов, совершенно абсурдно с точки зрения традиционного православного богословия, согласно которому Церковь вчера и сегодня – одна, едина и нераздельна, что мы и исповедуем в Символе Веры: «Верую во единую… Церковь…»: здесь выражается не воспоминание и не надежда, но нынешняя и непреложная реальность.
2СЗ, п. 8 [ЖМП. 1991. № 7. С. 44].
В настоящее время нехалкидониты не очень-то склонны признавать четыре Вселенских Собора, последующих Ефесскому Собору, и заявляют, что этот вопрос «преждевременен и неуместен», ссылаясь на то, что он требует «систематического исследования Соборных Деяний, которое потребует значительного времени»! (см.: Damaskinos, métropolite. Réponse... // Episkepsis. 521. 1995. P. 18). Они предлагают сначала установить евхаристическое общение и лишь затем заняться исследованием этого вопроса. Этот порядок, конечно же, неприемлем с точки зрения традиционной экклезиологии Православной Церкви, которая гласит, что евхаристическое общение может быть установлено лишь на основании полного и совершенного единства веры. Вызывают большие сомнения относительно серьезных намерений нехалкидонитов высказывания, аналогичные следующему заявлению Поля Вергеза (нынешнего митр. Павла Мар Грегория) – одного из основных поборников унионального проекта среди нехалкидонитов: «Содержание ороса VI Вселенского Собора для нас принципиально неприемлемо. […] Принятие VI Вселенского Собора для нас еще более затруднительно, чем принятие Халкидона» (GOTR. XVI. 1–2. 1971. P. 137–141).
Не напрасно Владыка Каллист Уэр избрал это выражение в качестве подзаголовка своей книги «Православие».
Опровержение. 30 // PG 99, 192–193.
Послание к армянам. P. 162–170. (Photius. Послание 285. P. 98–112). По поводу отношения святого Фотия к нехалкидонитам, см. исследование отца Ф. Зисис: Ὁ Μ. Φώτιος καί ἡ ἕνωση τῶν Ἀρμενίων μέ τή Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία [Фотий Великий и единение армян с Православной Церковью] // Πρακτικὰ ΙΕ′ θεολογικοῦ Συνεδρίου «Μέγας Φώτιος». Салоники, 1995. Σ. 581–603.
Halleux. Actualité... P. 500.
См. по этому поводу: Florovsky G. The Function of Tradition in the Ancient Church // CWGF. T. I. Belmont, 1972. P. 73–92).
St. Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers // CWGF. T. I. Belmont, 1972. P. 105–106. Последние слова принадлежат святому Киприану Карфагенскому (Послания. 74) [цит. по: Флоровский Г., прот. Догмат и история. М.: Свято-Владимирское Братство, 1998. С. 377–378].
Pelikan J. La tradition… P. 31.
См.: Pelikan J. La tradition… P. 9–39.
L’Orthodoxie. L’Église des sept conciles. Paris, 1968. P. 269.
Ibid. P. 276. По этому поводу см. также: Karmiris I. The Distinction between the «Horoi» and the «Canons» of the Early Synods and their Significance for the Acceptance of the Council of Chalcedon by the Non-Chalcedonian Churches // GOTR. XVI. P. 79–84.
Характерно, что на Западе получил широкое распространение доклад отца (ныне епископа) Илариона (Алфеева), представленный им перед Богословской Синодальной комиссией Московского Патриархата и озаглавленный «Диалог с дохалкидонитами и рецепция Соборов. О рецепции Вселенских Соборов в древней Церкви» (Supplément au S.O.P. № 217, avril 1997). Автор проявляет удивительное незнание христологии нехалкидонских Церквей, указывая, что они «признают во Христе две природы [sic] – божественную и человеческую» и «говорят о соединении двух [sic] природ, божественной и человеческой» (р. 1). Автор также заявляет о столь же удивительных, но характерных а приори, когда пишет, что «после Халкидонского Собора зародились две семьи Православных Церквей [sic] – халкидонских и нехалкидонских» (р. 1). Учитывая последнее, нисколько не удивительно, что позднее автор приходит к выводу, что Халкидонский Собор «никогда не был единодушно принят полнотой (плиромой) христианской Церкви [sic]» (р. 6), так что «процесс его рецепции так и остался навсегда незавершенным» (р. 7). Вся остальная аргументация автора сводится к релятивизации решений Собора в социологической и гуманистической перспективе. Напр., в разделе, который французским издателем был почему-то озаглавлен «Синергия Святого Духа и человеческих личностей», абсолютно ничего не сказано о просветительном и вдохновляющем действии Святого Духа, но выявляется лишь человеческий фактор и подчеркивается его относительность (р. 3). Божественное (принадлежащее недоступной объективной реальности) отделено от человеческого (принадлежащего области рационального): «Сущность догмата принадлежит области божественного, а поиск правильного словесного выражения этого догмата скорее принадлежит области человеческого разума» (р. 3) (все цитаты даны в обратном переводе с франц. яз. – Прим. перевод.).
Эта мысль очень ясно прослеживается в «Ответе» митр. Дамаскина и в докладе отца Илариона (Алфеева) (ссылки – см. выше).
The Authority of the Ancient Councils and the Tradition of the Fathers // CWGF. T. I. Belmont, 1972. P. 96.
Соборное послание // PG 87, 3185.
Между прочим, нехалкидонские Церкви продолжают смотреть на это сборище как на подлинный собор. Такое же отношение он вызывает у некоторых сторонников унионального проекта, которые уже сейчас называют его Вторым Ефесским.
См., напр.: Alfeyev H. Loc. cit. P. 8–9.
Les Conciles œcuméniques. T. 2 Les décrets. Paris, 1994. P. 200–201 [цит. по: Деяния… Т. III. С. 48].
Ibid. P. 270–271.
Ibid. P. 290–291.
2СЗ, п. 10.
См. послание патриарха Иерусалимского Диодора I патриарху Константинопольскому Варфоломею I от 22 сентября 1992 г. (греч. текст опубликован в Orthodoxos Typos от 23 октября 1992 г.; франц. пер. – в брошюре: Besse J. Le sens de Chalcédoine. Lavardac, 1993. P. 8).
Ibid.
PG 102, 838.
Ecclesiological Issues concerning the Relation of Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Church // GOTR. XVI. P. 139. Ср. P. 140: «Мы считаем, что Лев – еретик» (см. также прим. 87).
Издание этого текста: S. Brock. An Early Syriac Life of Maximus the Confessor // AnBoll. 91. 1973. P. 299–346.
В лоне монофизитской Церкви Сирии как этот текст, так и его автор имеют большую славу и большой авторитет.
Издание этого текста: Les «Kephalaia gnostica» d’Évagre le Pontique et l’histoire de l’Origénisme chez les Grecs et les Syriens / A. Guillaumont. Paris, 1962. P. 176–180.
Ibid.
Напр., можно вспомнить о монофизитском Александрийском патриархе Тимофее Элуре, на котором лежит часть ответственности за убийство православного патриарха Протерия.
См.: Damaskinos, métropolite. Le Dialogue théologique de l’Église orthodoxe et des Églises orientales orthodoxes. Réflexions et perspectives // Episkepsis. 516. 1995. P. 17: «а) очистить (sic) богослужебные тексты от тех элементов, которые в прошлом вызывали раздоры или которые могут создать путаницу после восстановления церковного общения […]; с) адаптировать праздники (Синодик Недели Православия, анафемы, тропари, проч…».
Напр., святогорских отцов («Замечания комитета Священного братства Святой Горы Афон». Op. cit. P. 20).
Напр., митр. Дамаскин или митр. Павел Мар Грегорий.
Ἡ ἐμπειρική θεολογία στήν οἰκολογία καί τήν πολιτική. Thessalonique, 1994. P. 157–158.
См. выше, прим. 138.
Источник: Ларше Ж.-К. Христологический вопрос (по поводу проекта соединения Православной Церкви с Дохалкидонскими Церквами: нерешённые богословские и экклезиологические проблемы). Пер. с франц. иером. Саввы (Тутунова) // Богословские труды. 2007. № 41. С. 146-211.